Дороги русских поэтов

«Россия сердце тревожит…»: О поэтах в поэзии
В мае 2021 года увидела свет новая книга известного поэта и историка, автора проекта «Поэтические места России» Сергея Дмитриева «Россия сердце тревожит… Стихи о России и поэзии» (М., Вече), в которой автор собрал в единую летопись протяженностью более четверти века свои стихотворения о России, ее тысячелетней истории, родной природе и временах года, а также о феномене поэзии и великих русских поэтах, по следам которых Сергей Дмитриев странствует долгие годы.
«Я поэт есенинских кровей / С почерком Серебряного века, / Но душе моей всего милей / Пушкинская библиотека», - таким образом автор сформулировал свое поэтическое кредо, стараясь не только проникнуть в тайны поэзии, но и воспеть странствия по свету самых ярких представителей поэтического олимпа России: Пушкина, Грибоедова, Тютчева, Гумилева, Есенина, Волошина и многих других. Циклы стихотворений об этих поэтах составляют несомненное украшение новой книги Сергея Дмитриева, и нам приятно представить их отдельными постами для любителей поэзии и истории.
Александр Сергеевич Пушкин

С. Дмитриев:
С моих первых поэтических опытов – а они начались более 40 лет назад - для меня сразу очевидной стала неразрывная связь с другими русскими поэтами, расчищавшими ранее своими трудами пути и тропы отечественной поэзии. Отсюда родились мое убеждение, что «поэтов странствия по свету пора настала воспевать», и появилась моя страсть к путешествиям по следам русских поэтов: Грибоедова, Пушкина, Тютчева, Гумилева, Есенина, Волошина и многих других. Все эти странствия в итоге вылились в циклы стихотворений моей новой книги: «Поэтический медальон», «Дорогами мастеров слова», «По Европе: Гоголь, Тютчев, Тургенев», «Грибоедовскими тропами», «Мой Пушкин», «По следам Николая Гумилева», «Вспоминая Есенина».
Представляя к дню рождения «солнца русской поэзии» более 30 своих стихов о его судьбе и странствиях, поясню, что название цикла «Мой Пушкин» не просто повторяет известное цветаевское название, а еще раз подчеркивает, что у каждого из нас «свой Пушкин». С раннего детства мы знакомимся с ним, и он сопровождает нас потом как ангел-хранитель, делая нас мудрее, добрее и чище. Мне посчастливилось не только ощущать постоянное присутствие этого ангела поэзии где-то совсем рядом, но и специально следовать по его жизненным путям - от Москвы и Михайловского до Царского Села и Петербурга, от Торжка и Великого Новгорода до Пскова и Яропольца, от Тбилиси и армянских дорог до Карса и Эрзурума. И на всех этих путях я всегда ощущал, что «Один лишь Пушкин мне отрада, / Маяк, учитель и судья, / И Музы высшая награда, / И песнь любимая моя».
Желаю читателям пройти со мной еще раз путями Пушкина, обратив внимание, что некоторые стихи помечены еще 1979 г., а рождались они в самых разных точках планеты от Испании, Франции и Африки до Пушкиногорья, Петербурга и Военно-Грузинской дороги.
Мой Пушкин
Встреча
Мой Пушкин милый по ночам
Ко мне по-дружески заходит
И разговор со мной заводит,
Ну просто так, по мелочам.
Не о возвышенных началах,
А о житейской суете.
«Мол, времена у нас не те,
И мы безвольно и устало
Влачим на свете дни свои…»
Попробуй это объясни.
«А где порывы вдохновенья
И запредельные стремленья,
Служение родной земле
И свет спасительный во мгле?»
А мне ему ответить нечем:
«Бог даст, себя ещё излечим
От общего упадка сил».
Лишь бы он снова заходил
И дальше мирно говорил
О том, о сём, о новой моде,
Осенней ветреной погоде,
О губернаторских балах
И новых Дельвига стихах,
Потом о явственном засилье
Пришельцев с берегов Невы,
Чертах Парижа и Севильи
И сплетнях царственной Москвы.
Продлятся долго пересуды,
Пока, сославшись на дела,
Мой гость, явив всё то же чудо,
Исчезнет вновь за зеркала.
Он между делом на прощанье
Своё подарит обещанье
По-свойски заходить ко мне
То ль наяву, а то ль во сне.
Ллорет-де-Мар, Испания, 11.07.2002
Пушкин
Извечным словом смерть поправ,
Вознёсся он над бренным миром,
И утвердив поэзии устав,
Стал поэтическим кумиром.
С той устроительной поры
Руси непобедимо слово,
Оно горит, как вещие костры,
К любому испытанию готово.
Своим талантом Пушкин заложил
Основы стройной русской музы
И нас хранить благословил
Поэзии живительные узы.
Пушкиногорье, 1.06.2003
Маяк
Один лишь Пушкин мне отрада,
Маяк, учитель и судья,
И Музы высшая награда,
И песнь любимая моя.
Ему молиться не зазорно
В тиши полуночных трудов,
И силы черпая повторно
Из родника заветных слов.
Когда кругом бушует смута
И нет спасения в пути,
Лишь Пушкин может почему-то
И успокоить, и спасти.
Ллорет-де-Мар, 11.07.2002
Странник
О, Пушкин, добрый мой приятель
В беседах, муках и трудах.
Я благодарный твой издатель
Теперь, в двухтысячных годах.
Опять, как встарь, без гонорара
Остался ты, мой бедный друг.
Нужда — твоя и боль, и кара,
Чем удостоил жизни круг.
В России истинное слово
Извечно вовсе не в цене,
Оно на подвиги готово,
К мученьям, смутам и войне.
Поэт в России — скорбный странник,
Чья жизнь на крест осуждена.
И ты, поэзии избранник,
Познал такой удел сполна.
Бессмертие ты предпочёл творений
Бессмертию души своей,
И твой непревзойдённый гений —
Как рана в памяти людей.
Ллорет-де-Мар, 15-17.07.2002
Казнь
Прочтя твоих творений том,
Я жизнь твою прочёл попутно.
Поэзия не столь сиюминутна,
Как видят те, кто с нею не знаком.
Что может лучше передать
Судьбы накал и назначенье?
Поэзии дано предвосхищать
Грядущих мятежей теченье.
Ты был трагический поэт,
Каких на свете слишком мало.
Теперь таких и вовсе нет —
Река поэзии изрядно измельчала.
Ты прав, на казнь осуждена
Твоя судьба однажды оказалось.
И нам тобой навек передана
Тревога и душевная усталость.
Париж, 6.07.2002

Лицей
Лицей, лицей! Святое место!
Здесь гений Пушкина взрастал,
Здесь он, вступив на пьедестал,
Волшебной силой русской песни
Отчизны славу возвышал.
Он, как заря на небосводе,
Взошёл, оковы тьмы разбив,
И над простором русских нив
Он лирою воспел свободу,
Стихами рабство победив.
Ленинград, 5—7.07.1979
В Царском Селе
...Нам целый мир чужбина,
Отечество нам Царское Село.
А. С. Пушкин
Куда б судьба не заносила в гости,
Куда бы ветер странствий не увлёк,
Отечество нам - русские погосты
И памяти родимой уголок.
Отечество нам - Новгород и Тула,
Москва и Царское Село...
Душа с рождения навечно присягнула
Тому, что нерушимо и светло.
Отечество нам - даль лесной истомы,
Ширь неоглядная полей...
Мы ощущаем только дома
Теченье благостное дней.
Нам чувство Родины даётся,
Как истинная благодать,
И сберегать ее на свете остается,
И никогда не предавать!
Царское Село, 20.05.2015
Две Родины поэта
Две Родины случились у поэта -
Москва и Царское Село!
И в этом корень верного ответа:
Откуда вдохновение пришло.
Сплелись венцы кремлевских башен
И блеск растрелльевских дворцов...
И стал для Пушкина не страшен
Удел опасный русских слов.
Смешались люди, судьбы, драмы,
Века, эпохи и места...
И сплел творений панораму
Поэт, как с чистого листа.
Москва - твердыня и основа,
А Царский городок так тих...
И Музы сорваны покровы,
И стал его бессмертен стих.
Как гений Пушкин получился
Из огнеборства двух начал:
В Москве престольной он родился,
А в Царском он поэтом стал!
Царское Село, 20.05.2015

Петербург
Невы громоздкое теченье,
Мостов изогнутый полёт,
Тумана лёгкое движенье,
Проспектов ровный хоровод,
Соборов гордых силуэты,
Петра безудержная власть,
Дворцов державные приметы.
Фонтанов свежесть, блеск и страсть,
Особняков усталых сонность,
И финский ветер, и покой,
И Пушкин дарит упоённость
Своей онегинской строфой…
13.10.1980, 12.01.2003

Пушкин в Гурзуфе
Мой дух к Юрзуфу прилетит.
А. С. Пушкин
Юрзуф! Любви и счастья рай!
Ты здесь Онегина задумал,
Здесь Муза била через край,
И ты влюблялся невзначай
Под музыку морского шума.
Ты покорил здесь Аю-Даг,
Ту первую свою Святую Гору,
И плавая, не попадал впросак,
И не подвёл тебя рысак,
Когда изъездил ты верхом просторы.
В пещере тайной сладостный Коран
Читал ты, мир иной воображая.
И виделся тебе гарем и хан,
Стамбул, Багдад иль Тегеран,
Как очаги земного рая.
Ты, как охотник, здесь поймал
Хвост поэтической Жар-птицы,
И вскоре признанным поэтом стал,
И в собственных мечтаньях уповал
На жизни будущей зарницы...
Вновь Крым узреть ты не успел,
Хотя к нему нередко рвался.
Но жизни миновав предел,
Твой дух к Юрзуфу прилетел
И в кипарисе жить остался!
Гурзуф, 15.06.2015
В Бахчисарае
Мне Топ-Капы Бахчисарай напомнил,
Хоть он миниатюрней и стройней,
Намного меньше и укромней
Дворца стамбульских рубежей.
Бахчисарай - жемчужина из ожерелья
Восточных древних городов.
Царили здесь когда-то мудрость и веселье,
И сказки тысяч разных снов.
А жизнь незримая особенно бурлила
В гареме тайном неспроста,
Где драмам слишком тесно было,
Где правила любовь и красота.
И Пушкина давно не зря пленила
История с Фонтаном слёз!
А ныне здесь - ну просто мило
В цветущем окруженье роз.
Блаженны древние повсюду земли
В объятьях современной тишины:
Бахчисарай спокойно дремлет
И видит снова розовые сны!
Бахчисарай, 16.06.2015

Пушкинские горы
Мы смотрелись в те же небеса,
Что и Пушкин в юности далёкой,
Та же вдохновляла нас краса
Над теченьем Сороти широкой.
Нас съедали внуки комаров,
Тех, что Пушкина кусали,
И трепали языки ветров,
Тех, что Пушкина ласкали.
Нас мочил неугомонный дождь,
Тот, что Пушкину наскучил,
Нас обуревала та же дрожь,
Что дарует вдохновенья случай.
Мы увидели вселенский свет,
Осенивший Пушкинские горы,
И поэта неизбывный след
На Тригорском вольном косогоре.
Пушкиногорье, 1.06.2003
В Михайловском
Народная тропа не зарастает
В обитель пушкинских трудов,
И сердце тихо замирает
Среди михайловских холмов.
Здесь навсегда явилась миру
Стихов высоких благодать,
И снова пушкинскую лиру
Готовы мы обожествлять.
России не дано исчезнуть
Пока Михайловское есть,
И нам не даст сорваться в бездну
Благая пушкинская весть.
Пушкиногорье, 1.06.2003
Снова в Михайловском
Простор такой, что сердце замирает,
И ты не в силах выразить в словах,
Какая красота еще у нас бывает,
На русских необъятных рубежах.
Не мудрено, что пушкинские строки
Взлетали здесь, над Соротью родной,
В судьбой предписанные сроки
Назло тревогам жизни огневой.
В Михайловском ты понимаешь сразу,
Как гений появляется на свет,
Не усомнившись более ни разу,
Каким великим может быть поэт.
Михайловское, 6.08.2016
Тригорское
По тропинкам этим Пушкин хаживал,
И не его ли зыбкий след
Там, где липы стройные посажены,
Нам открыл небесный свет?
Не его ли вьются кудри
На ветру в ветвях дубов?
И не он ли каждым утром
Скачет там — в дали лугов?
Он ли ныне освежает
Ширь Руси грибным дождём?
Точно это я не знаю,
Только чувствую нутром…
Пушкиногорье, 1.06.2003
Опять в Тригорском
Над Соротью Онегина скамейка
Пленяет романтической тоской
С желанием счастливого римейка
Истории той давней непростой:
Чтоб, наконец, Евгений и Татьяна
Не разошлись, как в море корабли,
А взявшись за руки, пускай случайно,
Прошли бы вместе по путям Земли.
И мы тогда бы просто получили
Обычную российскую семью,
А яркую трагедию совсем забыли,
Сверяя с ней судьбу свою.
Пускай на свете будет больше счастья,
А драмы пусть живут в стихах...
Любовь онегинской печальной масти
Скамейка мне напомнила в кустах.
Тригорское, 6.08.2016
Святогорский монастырь
И град, и дождь пронёсся над могилой
В тот миг, когда июньскою порой
Мы Пушкину молитву возносили
Над Святогорскою землёй.
Разверзлись небеса и скорбными слезами
Оплакали при нас в который раз
Того, кто вечными стихами
Воспел Россию и для жизни спас.
Святогорский монастырь, 1.06.2003
В монастыре Святых Гор
"Достойно есть..." - икона возвещает,
Намоленная, древняя, у алтаря,
И сердце тихо замирает,
К вершинам храма воспаря.
А за стеной в простой могилке
Лежит безмолвно и спокойно тот,
Кто от земной тяжелой ссылки
К небесным высям сделал поворот.
Он выбрал путь исканий и страданий,
Не убоявшись смерти в нужный миг,
Хоть не исполнил всех тех обещаний,
Что скрыл его поэзии тайник.
В монастыре тропа не зарастает
К простой могилке над холмом,
Где в небо храм знакомый улетает
И где молитвы шепчутся молчком.
"Достойно есть... Достойно жил и умер,
Достойно вспоминается в веках"...
И слышатся по-прежнему в житейском шуме
Его тревоги и раздумия в стихах.
Псково-Печерская лавра, 4.08.2016

Мечтая о Болдино
И мне подарит неба просинь
Болдинская осень.
И мне нашепчут русские берёзы
Стихов печальных слёзы.
И мне навеет листопад безмолвный
Энергии природной волны.
И мне захочется поэтом быть,
Чтоб дальше по свету бродить
И счастья отблески искать,
И о любви не забывать.
Вёшки, 4.09.2016

Торжок
Путешествие нужно мне нравственно и физически.
А.С. Пушкин. Из письма П.В. Нащокину
Торжок уныл и безысходен,
Он спящему богатырю подобен,
Попавшему давно впросак,
Когда Санкт-Петербургский тракт
Железная дорога победила,
И стало здесь спокойно и уныло.
А раньше были времена иные,
Когда кареты, дрожки удалые,
Повозки, брички и возки,
Как волны транспортной реки
Текли из Питера в Москву.
Торжок был явно на плаву.
Меж двух столиц справляя путь,
Его нельзя ведь было обогнуть.
Что говорить, раз больше двадцати
В своём скитальческом пути
Здесь на ночь Пушкин оставался,
Котлетами пожарскими питался,
К дворянам местным на чаи
Он стансы приносил свои,
Там неожиданно влюблялся,
Но вновь в столицы возвращался
С прекрасным чувством, налегке
И долго помнил о Торжке...
Теперь же город бесприютен
В плену провинциальных буден.
Ах, взять бы властно и закрыть
Железной ветки злую нить,
Вдохнув здоровье на века
В дыханье спящего Торжка.
Торжок, 20.04.2004

Полотняный Завод
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальнюю трудов и чистых нег.
А.С.Пушкин (1834)
Ты совершил сюда побег
На ниву русского раздолья,
Душе устроив богомолье,
Как православный человек.
От петербургской суеты
Ты удалился в лес калужский,
Где дух не истощился русский
В кругу волшебной красоты.
На свете счастья вроде нет,
Но ты его здесь точно встретил,
Когда опять в душе отметил
Любви спасительный завет.
На две недели счастье тут
Тебе игриво улыбнулось,
И вдохновение вернулось,
И отдалился рока суд.
Супруги нежной кроткий нрав,
Детей приветливая ласка...
И жизни радостные краски
Вновь утвердили свой устав.
Вот если бы совсем не уезжать
Из этого блаженного поместья,
То может, победив предвестья,
Так рано не пришлось бы умирать?..
Ты в жизни самые благие дни
На Полотняном испытал Заводе,
И место это словно гимн свободе
В России Боже сохрани!
Полотняный Завод, Калужская область, 4.05.2012
Бесы
Сколько их, куда их гонят,
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?
А.С.Пушкин
Взбесился вечер шумной вьюгой
Над крышей старенькой избы,
Никак сам чёрт с своей супругой
Гудит по-волчьи из трубы?
Никак скрипят досок сострУгой
С кладбища вставшие гробы?
Никак Яга своей подругой —
Метлой махает из ступы?
Никак вампиры в спину дышат?
Никак глазниц горят огни?
Никак беда стучится в крышу?
О. Боже, Боже, сохрани!
И до зари продлятся пляски
Семьи нечистой и шальной.
В снегу бурлящем вьются маски
Средь бала силы неземной…
Из хоровода удалился
Один лишь старый домовой.
Заснув тихонько под сосной,
Во сне он сразу возвратился
В свой мир спокойный, избяной,
С золою, гарью и трубой,
Как будто в трубах есть покой…
Сбесились бесы, бесенята,
Клыки и лапы, и хвосты
Сплелись в один комок лохматый,
Пыль снеговая — в полверсты.
И над комком во всю дымится
Какой-то адский фимиам,
Семейство дикое кружИтся
По тем же бешеным кругам…
А может это снится нам?
24—25.11.1980

Тифлисские бани
Я по пушкинским следам
Посетил Тифлисские бани,
Оказавшись на самой грани
Серы, жара и потной дани
Божеству здешних водных драм.
И меня банщик мылом мылил,
И я в серную ванну входил
Тихо, тихо – и вскоре застыл,
Ощущая удушливый пыл,
Оказавшийся мне не по силам.
Видно, Пушкин тогда был сильнее,
Потому что банный ритуал
Он на самый возвёл пьедестал,
И «роскошными» бани назвал,
Ничего не зная ценнее.
Да, не просто идти по следам
Тех, кто раньше тебя по свету
Пролетал горящей кометой,
Оставляя поэмы, сонеты
И приметы житейских драм.
Тбилиси, 30.04.2013
Дорога на Эрзрум
Дорогу Пушкина – с Тифлиса до Спитака –
Проехали мы за семь часов
Без спешки, суеты и страха
Даже в горах, под сенью облаков.
И убедились, что совсем не просто
Великим ныне следовать путям:
Развалины, препятствия, погосты,
Дороги скверные и всяческий бедлам…
Живут ведь скудно, просто, не богато
Народы горные, как прежде, и сейчас,
Но в этом они вряд ли виноваты,
А виноват лишь Батюшка-Кавказ.
Он и суров, и часто беспощаден,
И не меняется со временем совсем,
И от него спокойствия награды
Ты не напросишься никак, ничем.
То войны, то вражда, то склоки
Религий, то землетрясений дрожь,
И эти тяжкие истории уроки
Никак не «вылечишь» и не поймёшь.
В эпоху Пушкина тут пушки грохотали,
Народы и империи делили вновь Кавказ,
Но сколько эпоса и страсти мы узнали
В тот для истории весомый самый раз.
Поэмы и романы, песни и картины,
Живые судьбы и геройства образцы –
Нам подарили той истории седины,
Потом продолжили дарить и деды, и отцы…
А мы тем временем Гергеры миновали
И Пушкинский высокий перевал,
И место, где поэта повстречали
Те, кто с арбою гроб сопровождал.
Какие же далёкие и старые картины!
А сердце то и дело встрепенётся вновь.
Не зря проехали мы горы и низины,
Почувствовав былые страсти и любовь.
Мы не доехали пока что до Эрзрума:
Не всё так просто и свершается за раз.
Придётся вновь дорожного ждать шума
И снова дикий покорять Кавказ.
Дорога Тбилиси-Ереван, 1.05.2013
Путешествие в Эрзрум
У Пушкина было славное
Путешествие самое главное -
Хождение в дальний Эрзрум
Сквозь эпохи и гром, и шум,
По времени на полгода -
Шесть тысяч вёрст похода...
И какие же тайные думы
Довели его до Эрзрума -
Желанье побега, служенья, войны
Иль искупленье былой вины?
Или поездка к Грибоедову-другу
Положила начало этому кругу?
Знать точно нам сегодня не дано,
Но было так поэту суждено...
Да и что нам ныне за дело?
Ведь поэт отправился смело
Из Москвы до седого Кавказа,
От Орла и Владикавказа
По дороге Военно-Грузинской,
Ох, опасной и исполинской,
Сквозь снега, ущелья, обвалы
И без счета ночевки, привалы
В вожделенный город Тифлис,
В самый центр кавказских кулис,
Где уже, как напастье, страшна,
С турками разгорелась война!
И пришлось почти что солдатом
Становится поэту, и с братом
Повидаться после Тифлиса,
После бань, шашлыков и кумыса
И восточного колорита...
А теперь дорога открыта
Сквозь Армению и Безобдал
На Гюмри и турецкий вал
Неприступных еще крепостей,
Их на свете не сыщешь сильней
В ряду близлежащих стран -
Карс, Эрзрум и Эрдоган!
И поэт лезет в страшные стычки,
Невзирая на всякие лычки,
То на турок он с пикою скачет,
То от взрывов себя не прячет,
То к Паскевичу смело везет
Донесение с фронта в обход...
Взят и Карс уже неприступный,
Пал Эрзрум непонятный и смутный,
И поэт во дворце сераскира живёт,
Изучая там местный народ,
Посещая мечети, бани, гарем!
Вот избыток писательских тем,
Льются песни, стихи, дневники...
Но вот подло и не с руки
На Эрзрум наступает сама
Смертоноснейшая чума!
И поэт, попрощавшись с войной,
Уезжает обратно домой.
Будет долго еще вспоминать
Он турецких всадников рать
И шумящий узкий Дарьял,
И Крестовой горы пьедестал,
И блестящие наши победы,
И арбу с останками Грибоеда,
И могилку его на Мтацминде,
И Тифлиса пёстрые виды...
Да, запомнил поэт на век
Свой в Эрзрум дальний побег!
Ну а ныне выпало нам
По его проехать следам,
От спокойного Владикавказа
Через горы седого Кавказа
В нынешний город Эрзурум,
Где царит иной уже шум,
Шум двадцать первого века
И современного человека!
Батуми-Эрзурум, 5-8.05.2015
В Эрзуруме
Как и при Пушкине, молитвы муэдзина
Над Эрзурумом звучат и звучат,
Будто времени всё засосала тина,
Или время вернулось назад.
Так же солнце над крепостью всходит,
Так же холод спускается с гор,
И вражда никуда не уходит,
И религий не кончился спор.
Двести лет... Но ведь только внешне
Изменился старый Эрзурум,
И блаженный, и бурный, и грешный,
Переживший рождений бум.
И узнал бы поэт воскресший
Город, где царил сераскир,
Где гарем был с трущобами смешан,
Где османский буйствовал пир?
Ныне город как будто спокоен,
Но какие в нем страсти спят?
Пушкин понял, как город скроен,
Возвратившись в Россию назад.
И его следы ныне не скрыты
Там, где города длится шум.
Ничего из того не забыто,
Что прославило старый Эрзурум!
Эрзурум, ночью, 8.05.2015
* * *
«На свете счастья нет,
Но нет его и выше», -
Сказал в сердцах поэт,
Но я его не слышу.
На свете счастье есть,
Там, в небе, не иначе,
Где жизни новой смесь
Его спокойно прячет.
Земная жизнь, как жаль,
Лишь счастья подготовка,
А на Земле царящая печаль -
Небес коварная уловка.
Виктория Фоллс, Зимбабве, 22.09.2011
Пушкинская Муза
А за окном метель и вьюга,
И приближенье Рождества,
А в доме ты — моя подруга
И ощущенье волшебства.
Свеча горит, и чьи-то тени
Ведут по стенам хоровод,
А ветер песней дуновений
Куда-то нас с собой зовёт.
Леса молчат, и в вальсах снега
Колдует русская зима.
А на душе — покой и нега,
И Муза вечная сама…
Рождество, Конобеево, 7.01.1999
Любовь
Любви на свете нет,
А есть печаль и нежность.
Таков судьбы завет
И жизни неизбежность.
Любви на свете нет,
А есть покой и верность.
Знакомый всем сюжет,
Простая многомерность.
Любви на свете нет,
Как счастья нет на свете.
Так завещал поэт
В пророческом сонете.
2—6.04.2000
Признание
Я поэт есенинских кровей
С почерком «серебряного века»,
Но душе всего милей
Пушкинская библиотека.
30.09.2000
Счастье
На свете счастья нет, а есть страданий бездна,
И спорить с этим вовсе бесполезно.
На свете есть любовь, но нет совсем порядка,
И сознавать такое никому не сладко.
На свете правды нет, а есть одна тревога,
Уж такова, увы, судьбы людской дорога.
На свете есть печаль, но нет совсем свободы,
И лишь небес живых её даруют своды.
На свете жизни нет — есть жизни иллюзорность,
И остаётся нам смиренье и покорность.
16.04.2003
К Пушкину
На свете счастья нет, но есть любовь и вера,
И мне понятна их спасительная мера,
Они тебе помогут на Земле пройти
По самому тернистому и скользкому пути,
Ведущему туда - в небесные чертоги,
Где счастье ты найдёшь… в служенье Богу!
4.03.2013
Завет
Нет сил любить и ненавидеть,
И остаётся просто жить,
Дышать смиренно, слушать, видеть,
Стареть и с Богом говорить.
5—6.05.2002
Подражание Пушкину (с иронией)
Не зря извилистой тропой
Я пересёк пустыню мира,
Недаром камера и лира
Мне были вверены судьбой.
Порторож, 7.08.2011
Николай Степанович Гумилев
 Николай Гумилев – этот «конквистадор» русской поэзии по праву получил звание лучшего поэта путешествий, ибо ему суждено было воспеть странствия по свету как никому другому. И он почти единственный в отечественной литературе обратил внимание на Африку, несколько раз побывав на «жарком континенте». Вспомнить о нем в этом году нам особенно важно, потому что ровно 100 лет назад – в конце августа 1921 г. - оборвалась его жизнь, полная драматизма и приключений.
Николай Гумилев – этот «конквистадор» русской поэзии по праву получил звание лучшего поэта путешествий, ибо ему суждено было воспеть странствия по свету как никому другому. И он почти единственный в отечественной литературе обратил внимание на Африку, несколько раз побывав на «жарком континенте». Вспомнить о нем в этом году нам особенно важно, потому что ровно 100 лет назад – в конце августа 1921 г. - оборвалась его жизнь, полная драматизма и приключений.
Мне посчастливилось более 10 раз следовать путями Гумилева в Африку, и я не мог не отразить свои ощущения от знакомства с миром дикой природы, овеянной стихами «конквистадора», в своих стихотворениях, сложившихся в итоге в небольшой цикл «По следам Николая Гумилева». В ближайшее время я планирую поехать в Эфиопию, где следы поэта-странника отпечатались сильнее всего, и там мне снова покажется, что он находится где-то совсем рядом, вместе с жирафами и слонами, сикоморами и баобабами…
По следам Николая Гумилева
Читая Гумилёва
Я на острове Родос
Читал Гумилёва,
Словно путника кодекс,
Как заветное слово.
Я читал Гумилёва
И далёкие дали
Видел снова и снова
Сквозь года и печали.
Он в чекистском подвале
В двадцать первом не сгинул
И земные едва ли
Просторы покинул.
Он, наверно, к Харрару
Караван свой подводит,
Африканские чары
Вновь в стихи переводит.
Он на львов и газелей
Охотится смело
И опять на пределе
Своё делает дело.
В Абиссинские горы
Свою ношу дотянет,
Где найдёт сикомору,
Под которой не встанет.
Родос, 7.07.2009
Судьба поэта
Развёртывается как свиток
Из песен судьба твоя,
Как цепь испытаний и пыток,
И странствий в чужие края.
Тебе, как бродяге по миру,
Дорог выпала честь,
И ты свою звонкую лиру
Пронёс как благую весть.
И гибели ты не боялся
В пустыне, на фронте, в Чека,
Твой путь ведь не оборвался,
Как не оборвалась строка.
Стихам твоим не померкнуть
По воле небес и Творца.
Ты вышел опять на поверку
В пути, что не знает конца.
Родос, 7.07.2009
Разговор с Гумилёвым
«Как жаль, что ты не увидел
Ни Чад, ни Мадагаскар,
Китая пёстрого виды
И дикой Камчатки дар.
Как жаль, что ты не добрался
До айсбергов и полюсов
И джунглями не восхищался,
И в Дели не видел снов.
Как жаль, что ты не потрогал
Ацтекских крутых пирамид
И рано прервал дорогу
В тот мир, что ещё не открыт.
Мы вместе могли бы добраться
В Иран и в Аляски леса
И там разгадать попытаться
Неведомых мест чудеса.
Охотились бы, кочевали,
Народы другие узнав,
И снова в стихах составляли
Всех странствующих устав.
С Россией бы мир сравнили,
Услышав чужую речь,
И Господа бы попросили
Русское слово сберечь.
Потом бы в края родные
Вернулись на вечный срок
И странствия наши земные
Воспели биеньем строк».
Родос, 7.07.2009
В долине баобабов
Посвящается Николаю Гумилёву
В долине древних баобабов
Я отдохнуть минуту лёг,
Но сон, почуяв мою слабость,
Меня в далёкий путь увлёк,
Где бездна звёздного масштаба
Открыла вещий уголок.
Я улетел в Эдем нездешний,
Где ангел чёрный мне сказал:
«Идёшь пока путём ты грешным
Среди Божественных начал,
И оказаться может безутешным
Твой неразгаданный финал.
Сверни туда, где мира тайна
В духовных вскроется трудах,
Где ты увидишь неслучайно
Кресты на древних куполах,
Где жизнь окажется бескрайна,
Когда исчезнет смерти страх...»
И он исчез… Я блеск Эдема
Во сне совсем не разглядел,
Потом очнулся, думал немо
Про свой предсказанный удел.
Что это – бред сознанья? Схема?
И есть ли бытия предел?
Вопросов больше, чем ответов,
Я, как и все, греховен, слаб,
На нашей призрачной планете
Я тоже Высшей силы раб.
А надо мной шумит от ветра
Огромный древний баобаб…
В буше, Зимбабве, 15.09.2011
В Аф-ри-ку!
Если в жизни ищешь лада
И свою душевную строку,
Думать много и не надо –
Поезжай-ка в Аф-ри-ку!
Ведь не зря сюда так рвались
Стихотворцы в прежние века
И самозабвенно воспевали
Мир с названьем Аф-ри-ка!
Я иду тропою той же
По просторам Аф-ри-ки,
Находя свой лад похоже
Всем напастям во-пре-ки!
Район озера Нэтрон, Танзания, 17.07.2013
С Гумилевым в Африке
И я удачным стал однажды,
Увидев, как большой жираф
По Африке гуляет важно
И не уносится стремглав
От человеческого взгляда,
Нарушив собственный уют…
И мне стал истинной наградой
По дикой Африке маршрут!
Тропою той же мы искали -
И ты, и я - духовные пути
И те же истины узнали,
Когда хватало сил идти.
Ты стал блуждающим поэтом,
Я по твоим пошёл стопам,
Воспев иные части света,
Где ты не появился сам.
Иран, Япония, Зимбабве,
Афон, Канада и Китай –
Ты не хотел увидеть разве,
Ища свой не открытый рай?
По мерам сил своих душевных
Я эти страны открывал
И сочиненье строк напевных
Тебе нередко посвящал.
Ты и сейчас бредёшь, наверное,
По неземным уже путям
И продолжаешь труд безмерный,
Служа скитаньям и стихам.
Район озера Нэтрон, Танзания, 18.07.2013
Гумилевская сикомора
В плену тенистой сикоморы
Так хочется забыться и уснуть,
И пусть шумят в миру раздоры,
И длятся континентов ссоры,
Я здесь узнаю жизни суть.
Во сне привидится открыто
Иной расклад иного бытия,
Где войны и вражда забыты,
Где люди счастливы и сыты,
Свои лелея страны и края.
Но этот сон, пожалуй, не реален,
Его навеял сикоморы дух,
Мир соткан из вражды, печали,
И он изменится едва ли,
Когда во сне замкнётся слух…
Под сенью старой сикоморы
Так сладко просто отдохнуть,
Вдыхая Африки просторы,
Ведя с собою разговоры
И собираясь в новый путь.
Район озера Нэтрон, Танзания, 19.07.2013
Я и снова баобаб
Вспоминая Николая Гумилева
Под стройным и гигантским баобабом
Я чувствую себя беспомощным и слабым.
Какую силищу вскормил природный дух!
И я, как утомлённый от жары пастух,
Иль странник, свой прошедший путь,
Хочу под баобабом медленно заснуть.
И пусть листва шумит над головою,
А я во сне таинственной стезёю
В дом свой далёкий сразу улечу,
Где снова всё мне будет по плечу,
Где ждёт меня семья и вдохновенье
И поисков духовных продолженье…
Мне подарил надежду баобаб,
Что я – дорог бегущих раб –
Тропой своей дойду до дома,
Где жизни терпкая истома
Меня однажды перестанет в даль манить,
И я, уйдя, начну по новой жить
Там, где растут и баобабы, и дубы,
Где нить уже иной судьбы
Своё по космосу продлит движенье…
Ну, а сейчас ещё в изнеможенье
Под баобабом мощным я лежу
И в небо синее с надеждою гляжу…
Чемба, Мозамбик, 1.11.2014
Сергей Александрович Есенин

Есенин, без сомнения, второй поэт России после «солнца русской поэзии», недостижимого на своем пьедестале-олимпе. Однако народная любовь к «рязанскому соловью» порой превосходит все возможные пределы, что отражается не только во внимании к его стихам, но и в многочисленных песнях, вобравших в себя есенинскую грусть и тревогу. Я рад, что мне выпало странствовать путями Сергея Есенина – от Константиново и Рязани, Москвы и Петербурга до Ташкента, Баку, Берлина и Нью-Йорка. И во всех этих местах я старался уловить невидимое присутствие «есенинского духа», так и не успокоившегося после трагедии в «Англетере» в 1925 г. Мой цикл стихотворений «Вспоминая Есенина» показывает эти мои переживания лучше всего.
В 2020 г. мне с моими коллегами удалось снять документальный фильм «Моя поэма - Русь! Дорогами Сергея Есенина», показав его поэтом-скитальцем, а также еще раз обратиться к исследованию гибели поэта, выступив на эту тему несколько раз в ютубе на каналах «День-ТВ» и «Наше Завтра». И я по-прежнему уверен, что «И не ушла и не пропала / Есенинская Русь, / Она лишь затаённей стала», и нам надо оставаться быть ей верными…
Вспоминая Есенина
Есенинская Русь
И не ушла и не пропала
Есенинская Русь,
Она лишь затаённей стала,
Упрятав от всемирного кагала
Свой возрождающийся пульс.
Есенинская Русь жива
В пейзажах, стихах и детях.
И предъявляет так же права
Её распевная молва,
Плетя свои нежные сети.
С Есениным Русь вовек
Свои не ослабит чары,
И будет жив человек,
Пока льётся песен разбег
Под звуки русской гитары...
И не ушла и не пропала
Есенинская Русь,
Она лишь царственно устала
И, сохраняя вечные начала,
Смерть побеждает и грусть.
Рязань-Константиново, 1- 2.10.2005
Родина поэта
Поэты рождаются там,
Где склоны речного откоса
Открыты суровым ветрам,
Где падают по утрам
На травы небесные росы.
Поэты рождаются там,
Где хмель берёзовой тайны
Течёт как вино по устам,
Где рядом высится храм,
Взлетая над нивой бескрайней.
Поэты рождаются там,
Где песни звучат помногу
По улицам и домам,
И где ведёт по полям
Тропа неприметная к Богу.
Рязань-Константиново, 1-2.10.2005
У откоса
Константиновские холмы
В небеса от Оки улетают,
И стоим зачарованно мы,
Подойдя к самому краю.
Там вдали уплывает в Русь
Затаённой реки теченье,
И приходит тихая грусть
По есенинскому исчезновенью.
Почему он так рано ушёл
По тропе в небесные выси,
И сиротским стал русский дол,
На речном оборвавшись мысе?
Вновь обряда закатного кровь
Каждый день припадает к тыну.
Материнская крепче любовь
По ушедшему рано сыну.
Константиново, 2.10.2005

В Константиново
Я вижу живого Есенина
На фоне леса осеннего,
Идущим тропою волнистой
По жизни своей тернистой.
Идёт он, порой спотыкаясь,
Греша, созидая и каясь,
Сквозь сумрак вечной печали
В грядущие русские дали,
Как светоч народного духа,
Как лучшей судьбы порука.
И пусть застилают дорогу
К березовой роще и Богу
Туманы беды и мороки,
Рассеют их страстные строки.
Давно уже путник Есенин
Проследовал в райские сени,
Руси указав тот же путь,
С которого нам не свернуть.
Рязань-Константиново, 1-2.10.2005
Танго листвы
Сергею Есенину посвящается
Веют предзимней прохладой
Сумерки бабьего лета,
Но дождевые рулады
Осени, нет, не отпеты.
Грянет ещё напоследок
Танго листвы запоздалой,
И у танцующих веток
Листьям не будет причала.
Танго закружит в полёте
Пёстрый коктейль соцветий,
Но вскоре зимним фокстротом
Снег заплетёт свои сети.
Лист улетит последний
В вихре внезапной метели,
И на морозной обедне
Стужа свой полог расстелит.
Константиново-Москва, 2, 9.10.2005

В Пощупово: Иоанн Богослов и Есенин
Обитель Богослова не случайно
Явилась не брегах Оки:
Открылась Иоанну тайна,
Что лучше этой нет реки –
Неторопливой и бескрайней –
Для поэтической строки.
Так угадал Апостол появленье
Того, кто этот край воспел –
До боли и самозабвенья,
Кто жизни превзошёл предел
Струной душевного кипенья
В сумятице опасных дел.
Есенин Божье слово смело
По-русски нам пересказал,
Его душа с восторгом спела
Мелодии родных начал
И возвела его всецело
На Лиры русской пьедестал.
Пощуповский Иоанно-Богословский монастырь, 14.06.2014
В раю
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте Родину мою».
С.А Есенин
Вода как мягкое желе
Укутала в пелёнки тело.
Есть рай и на нашей Земле -
Здесь, у морского предела.
Повсюду царствует покой,
Помноженный на совершенство.
Но почему-то мир такой
Несёт не только блаженство.
Ты скоро начнешь тосковать
По дому и кругу родному,
Захочется вновь уставать,
Чтоб выспаться к выходному.
Ты снова захочешь туда,
Где в моде не райские страсти
И где царят как всегда
Отнюдь не небесные власти.
От зноя и солнца устав,
Ты вспомнишь снега и метели,
Не прочь остудить свой нрав
В святой ледяной купели.
Ты снова станешь готов
К сплошной городской суматохе
И стойко принять без слов
Приметы зловещей эпохи.
И если на самом краю
Тебя строго спросит Мессия,
Ты выберешь жить не в раю,
А в грозной и грешной России.
Мармарис, Турция, 20.08.2005

Мардакяны и Есенин
Мардакяны, Мардакяны,
Вы – каприз забытых снов,
Манящих в чужие страны
По следам заветных слов,
Что шептал давно Есенин:
«Шаганэ, ты моя, Шаганэ…»
И я вижу как будто бы тени
Той поры в бакинской стороне.
Мардакяны – место, где поэту
Счастье приоткрылось наяву.
Я сюда приехал в поисках ответов,
Позабыв сумбурную Москву.
Жить зачем? Во что же верить?
Как найти забытую любовь?
Что скрывают смертные нам двери?
Как разжечь стареющую кровь?
Может быть, Есенин мне подскажет,
Что ему открылось здесь, в Баку?
И стоит ли он ещё поэзии на страже,
Сберегая каждую свою строку?
Но молчат как прежде Мардакяны,
Лишь деревья кронами шумят.
Я свои не залечил здесь раны,
И Есенин в том не виноват.
Он ушёл на Родину Хайяма,
Чтобы с ним по Персии бродить.
Ну а нам его осталась драма,
Как судьбы неведомая нить…
Мардакяны, 14.07.2012

Ташкент
Ташкент – «город хлебный», добрый и тёплый,
И скольких он по-настоящему спас, накормил,
Когда войны докатились ужасные волны
Туда, где царил в 41-м ташкентский пыл.
Ташкент - город и стихотворений, и песен,
Ведь не зря здесь Есенин Восток воспевал,
А для Ахматовой мир тут не оказался тесен,
Когда и её Ташкент от смерти спасал.
Ташкент – город древних традиций и веры,
Сквозь него шёл когда-то шёлковый путь.
И все эти качества я сам на себе проверил,
Сумев на Ташкент беспристрастно взглянуть.
Ташкент, 8.11.2016

Поэтический Шираз
«Все поэты из Шираза», -
Так Есенин говорил.
Я поверил в это сразу,
Лишь в Шираз я угодил.
Саади, Хафиз, Фирдуси,
Низами, Омар Хаям…
Рифма здесь давно во вкусе
И подобна чудесам.
«Если перс не пишет песни,
То не видел он Шираз», -
Да, Есенин, как кудесник,
Точно понял местный фарс.
Здесь сегодня в каждом доме
Есть непризнанный поэт,
И плывёт стихов истома
Сквозь отметки тысяч лет.
Жаль, в Шираз Сергей Есенин
Так ни разу не попал,
Но струна его творений
Здесь нашла свой идеал.
Шираз, 3.12.2009
Утро в Ширазе
Встаёшь с загадкой в голове:
Ты где сегодня спал в постели –
В Ширазе, Лондоне, Москве,
Шанхае, Токио, Брюсселе?
Пора заканчивать прыжки
На самолётах по планете,
Пусть будут москвичи близки
И книги в тихом кабинете.
Пора без беготни воспеть
Увиденные в мире дали,
Ну а пока дано мне лицезреть
Персидские просторы и печали.
Мне ночью снятся радужные сны –
Таков каприз прекрасного Шираза,
А в мыслях шёпот лунной тишины,
Как вспышки стихотворного экстаза.
Шираз – пристанище поэтов, мудрецов,
Влюблённых и кочующих по свету.
И сколько новых явится стихов
Благодаря его нетленному завету.
Шираз, 2.12.2009
Шираз
Шираз – город птиц и цветов,
Город снов и сильных дурманов,
Город вечных и чистых стихов,
Город редких, но вещих туманов.
Здесь покоится с миром Хафиз –
Соловей персидских печалей.
Он воспел и любовь, и каприз,
И красоты невиданных далей.
В мавзолее своём Саади
Тихо дремлет, к себе приглашая
Всех поэтов мира придти,
Из России, Европы, Китая…
Ведь поэзии благостный дар
Одинаков для тысяч поэтов,
А Шираз – это чистый нектар
Для поэм, рубаи и сонетов.
Шираз, 3.12.2009
В персидской стороне
Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное "люблю"?..
Сергей Есенин
Энергию жемчужного Востока,
Как нектар с хмельных полей,
Собираю я… Но не одиноко,
А с заметной помощью твоей.
Мы с тобой, моя Шахерезада,
Здесь, в персидской стороне!..
И домой уже совсем не надо
Рваться сердцем, как обычно, мне.
Мы вдвоём, подруга-Лала,
Вместе слышим утренний намаз,
Разъезжая по стране немало
И испытывая от ковров экстаз.
Шаганэ моя, мы в толчею базаров
Не боимся вовсе попадать
И хлебаем чай из самоваров,
Чтобы душу жаром согревать.
Мы с тобою, дорогая Шага,
Пьём вино благоуханья роз,
Понежней оно, чем наша брага,
С привкусом и горечи, и слёз.
Гелия моя, с тобой на пару
Попадая в мир миниатюр,
Мы мечетей ощущаем хмару,
Но обходимся без страха и микстур.
В жизни есть ещё у нас отрада!
На душе всегда спокойно мне,
Если ты идёшь со мною рядом,
Шаганэ, моя ты, Шаганэ…
Тегеран, 21. 11. 2011
Голгофа Есенина
Рифмы опять простреливают
Сердце поэта насквозь.
Есенин стихами меряет
Судьбы своей сжатую ось.
Она как петля скрутилась.
И как же её миновать?
Надеждой на Божию милость,
Верой в стихов благодать?
Есенин шёл на голгофу,
Сбиваясь, но как храбрец,
Бросающий дерзкие строфы
В поэзии русской венец.
Есенин ни разу не сдался
Ни хитрым вождям, ни ЧК,
И русским поэтом остался,
Крестьянским, своим, на века.
И он был убит в «Англетере»
За то, что Святую Русь
Не предал враждебной вере
И всем нам сказал: «Я вернусь!
Вернусь зарёй несказанной
Над плёсом тихой Оки.
И будут навек желанны
В народе мои стихи!»
Вёшки, 21.11.2020
Поэты-страстотерпцы
Поэтов гибельные драмы –
Часть колоссальной панорамы
Под именем «Русская судьба».
И эта жертвенная монограмма
Венчает страстотерпцев шрамы
Там, где кипела страшная борьба -
Борьба за небеса и слово,
За сбережение родного крова
За вольность, веру, правду, честь.
Поэты рвали на себе оковы,
Чтобы творить, страдая, снова,
И получали рикошетом месть.
Их имена, как тягостные тени:
Рылеев, Пушкин и Есенин,
Блок, Грибоедов, Гумилёв…
Но если б не было падений,
То не явился б русский гений
В мир неизведанный стихов!
Вёшки, 24.11.2020
Англетер
В Англетере, в Англетере
То, что было, то прошло:
Для гостей открыты двери,
Сухо, сытно и тепло...
Таковы времён законы,
Ранам надо заживать...
Но как будто слышишь стоны
Там, где в пору отдыхать.
Будто чувствуешь невольно
В теле скользкий холодок,
И на сердце стало больно,
И пульсирует висок.
Так и видишь чьи-то тени
Жуткие - ни дать, ни взять,
Будто бы идёт Есенин,
Как на плаху, в номер пять...
Санкт-Петербург, 27.05.2021

Рядом с Исакиевским собором
Ангелы Исакия ещё хранят
Душу убиенного Сергея
И стихи его по-прежнему твердят,
В небесах над храмом рея.
Неприкаянный его и скорбный дух
Взяли ангелы на вечные поруки...
Но тревожат в Англетере слух
Еле слышимые шорохи и звуки.
Это не умолк ещё ничуть
Гул случившейся здесь брани,
Оборвавшей дерзкий путь
Русского поэта из Рязани.
И лишь Господу известно до сих пор,
Как ушёл поэт из жизни грешной,
Как поёт судьбе наперекор
Он ещё во тьме кромешной.
Ведь поэт не зря давно сказал,
Что ему «не надо рая»,
И оставила ему родной причал
Не напрасно рать святая...
Ангелов Исакия всё ту же рать
Солнце осветило снова.
Продолжает в небесах звучать
Вещее есенинское слово.
Санкт-Петербург, в «Англетере», 27.05.2021
Александр Сергеевич Грибоедов

Александр Грибоедов вошел в историю не только как автор гениальной комедии «Горе от ума», но и как выдающийся воин и дипломат, отдавший жизнь за Отечество. Помимо этого он был странником и путешественником, семь раз преодолевавшим тяжелый путь от Петербурга до Тифлиса и Ирана. И мне, как исследователю биографии великого поэта, пришлось проследовать всеми путями Грибоедова, вплоть до туманного Тебриза и Тегерана, разбираясь в хитросплетениях трагической судьбы. Параллельно я отражал свои впечатления от этих странствий в стихах, сложившихся в итоге в цикл «Грибоедовскими тропами», представляемый теперь читателям. В этом цикле поэт-странник предстанет не столько гением и писателем, сколько страстным и удивительным человеком, которому по плечу были даже самые героические деяния.
Грибоедовскими тропами
Грибоедов
Поэт в России больше, чем поэт,
Особенно на службе царской.
И Грибоедов этот горестный завет
Нам первым доказал ценой побед,
Судьбой своей печальной и бунтарской.
Гусар, повеса, музыкант, бунтарь,
Поэт и дипломат, и, наконец, посланник!
Открыл он жертвенный поэтов календарь,
Когда в Иране встретил роковой январь,
Как мести неминуемой избранник.
Ответил он пред персами за Туркманчай
И славу русского оружия лихого.
И всё случилось будто б невзначай,
Чернь якобы тогда хватила через край,
Но эта ложь для знающих совсем не нова.
Не мудрено опять свалить свои грехи
На люд простой, доверчивый и грубый,
И попытаться сотворить из этой требухи
Фальшивые и тошнотворные духи
Для русофобского всемирового клуба.
А Грибоедов пал как истинный солдат
На поле давней смертоносной брани,
И в этом сам поэт совсем не виноват,
Он оказался лишь в дни тягостных утрат
В неколебимом, но опасном русском стане.
Поэт в России часто сам герой
И жертва высших обстоятельств.
И как же хочется печальною порой
Вдруг возродить поэтов русских строй,
Не спасшихся из плена обязательств.
Рогашка Слатина, Словения, 5.06.2010

Военно-Грузинская дорога
Мы повторяем тот маршрут,
Который вдохновлял поэтов
Стать поэтической кометой,
Исполнив благодатный труд.
Владикавказ спокойный, Ларс,
Казбеги, перевал Крестовый…
И ты Кавказа приоткрыл основы,
Как будто открывая Марс.
А дальше Млета и Душет,
И Гудаури, и Пасанаури…
Нам дарит крепость Ананури
Приметы самых древних лет.
А вот и Мцхеты гордый лик,
Где православие торжествовало,
Но нам уже предгорий мало,
Нам подавай тифлиский шик!
Тифлис - мечта поэтов всех,
Здесь находивших вдохновенье,
Искавших сердцу искупленье
За дней былых позор иль грех.
Тут стихотворное свое перо
Оттачивали Пушкин, Грибоедов,
А Лермонтов их славные победы
Поэзией вновь превращал в добро.
И как же горестно порой бродить
По улочкам причудливым Тбилиси:
Поэтам ведь в плену небесных миссий
Не удалось ещё немножечко пожить!
В дороге, Владикавказ-Тбилиси, 2.05.2015
ВГД
Что это, братцы, за несносная дорога
Была в горах когда-то? Просто жуть!
От Владикавказа до Тифлисского порога
Неделю лямку приходилось всем тянуть.
Казалось бы, ну, километров двести,
А ты попробуй, как на брюхе проползи
Напасти все, здесь собранные вместе,
И сам себя до Грузии желанной довези.
Грязь, снег, лавины, камни, перевалы,
Проходы узкие, дожди и холода,
Напасти горцев и смертельные обвалы,
И прячущаяся за углом беда...
Тот, кто прошел хоть раз такой дорогой, -
Герой. И это должен каждый знать.
А Грибоедову семь раз пришлось у Бога
Просить себе в дороге этой благодать,
В палатках ночевать в снегу безмерном
Там, где Крестовый вьется перевал,
И вновь считать уроны и потери,
Что нанесла дорога, как кинжал.
Но можно все пути пройти удачно
И поскользнуться вдруг нежданно там,
Где Тегеран тебя не примет мрачный
И поглотит бессмысленный бедлам...
А мы сегодня ту же самую дорогу
Проехать можем и за пять часов
И вспомнить тех, кто был на службе Богу,
Отечеству и был на все готов!
На Военно-Грузинской дороге, 2.05.2015

Сиони
И после всех немыслимых тревог
Привел меня в Собор Сионский
В Тбилиси благодатный Бог...
Хоть он суров и часто строг,
Но дар мне этот Вавилонский
Открыл биенье новых строк.
Я вновь спешу к Сионским высотАм,
Как это делали мои предвестники-поэты,
И жажду отыскать для сердца там
Приближенность к извечным небесам,
Чтоб жизнь моя на этом свете
Не превратилась в пустоту и хлам.
А храм Сионский полон тишиной,
И свечи жаркие бросают тени,
И дышит грудь истомой вековой,
Влекущей в мир духовный за собой.
И понимаешь ценность тех мгновений,
Когда Господь следит, спасая, за тобой!
В Сионском соборе, 2.05.2015
Мтацминда
Кривые улочки Тбилиси
От вод недвижимых Куры
Бегут в заоблачные выси,
К подножию Святой горы,
Горы, где жил в своей пещере
Монах из Сирии Давид,
Родоначальник местной веры,
Принесший монастырский быт.
И в честь его вознёсся к небу
На склоне лик монастыря,
Где длится до сих пор молебен
С хвалой Небесного Царя.
А в монастырском тихом гроте
Мятежный автор «Горя от ума»
Нашёл приют на повороте
Дорог своих сквозь времена,
Сквозь дали Грузии, Ирана,
И всех иных Кавказских стран…
Поэта здесь затихла рана,
Что смерть ему принёс Иран,
Иран – соперник величавый,
Востока древнего оплот,
Схлестнувшийся с российской славой
На смерть саму, не на живот.
И в этой схватке беспредельной
Пал Грибоедов как посол,
Который храбро в миг смертельный
На казни эшафот взошёл.
Но не один он в мрачном гроте
Нашёл пристанища приют,
С ним рядом та, кто в ласке и заботе
Любви своей явила труд.
Ведь «Чёрной розою Тбилиси»
Её давно назвал народ
За верность, что любовь возвысит
До самых призрачных высот.
«Ум и дела твои бессмертны,
Но для чего тебя пережила…»
Здесь и сегодня всем заметны
Времён ушедших зеркала.
Нино всё так же сберегает
Живую память вдовию о том,
Кто до сих пор по Персии гуляет
Но возвращается к Святой горе потом.
Мтацминда чудо-панораму
Являет каждому, кому дано узреть
Любви и долга истинную драму,
Поправшую собою смерть.
Тбилиси, 17.07.2012

Опять Тбилиси горами пленяет,
Бегущими сквозь годы ввысь,
И снова сердце вдохновляет
На стихотворную корысть:
Запечатлеть рифмованной канвою
Кавказа царственный портрет,
Чтоб взять его потом с собою
В Москву, как странника завет.
Кавказ и нынешний достоин
Восторгов пылкого певца,
Хоть по-иному он устроен
Под сенью чуждого венца.
Ушли в былое вехи единенья,
И дружбы пыл давно остыл,
Но всё равно какое-то волненье
Мне город этот подарил.
Живут в нём невидимкой тени
Тех, кто Тифлис в стихах воспел
И руку дружбы без сомнений
Для Грузии подать успел.
Не зря здесь Пушкин, Грибоедов
И Лермонтов свой проявили нрав,
Представив русскую победу,
Как будущего единенья сплав.
И даже ныне Тёплый город,
Как исстари его тут нарекли,
Дух русскости показывает скоро
На рубежах своей земли.
Тбилиси мне по-прежнему товарищ,
Заблудший, гордый, но родной,
И пусть века страданий и пожарищ
Не увлекут его, как прежде, за собой…
Тбилиси, 27.04.2013
В Вербное воскресенье
Вербное в Тбилиси воскресенье
Также всем бросается в глаза,
Но не верба – главное растенье,
А растенье под названьем бза.
Веточки, как будто эвкалипта,
Целый год цветенье сохранят.
Со Святой Земли они, с Египта
Принесли в Тбилиси свой наряд?
В монастырь сирийского Давида
Люди поднимаются с трудом.
Лучше нет с Мтацминды вида
На происходящее кругом.
И любой, кто в монастырь приходит,
На секунду голову склонит
Пред могилами на входе,
Где поэт с супругою лежит.
Им, наверно, тоже воскресенье
Что-то в мир иной передаёт.
Ведь на свете вовсе нет забвенья,
Если память сердце бережёт.
А с надгробий веточки свисают,
Как весны и жизни торжество.
Смерть, конечно, на Земле бывает,
Но не смерть важней всего.
Главное – пройти свою дорогу
Как предписано твоей судьбой
И довериться в объятья Бога,
Знающему путь дальнейший твой.
Вербное воскресенье, Тбилиси, 28.04.2013

Цинандали
В усадьбе знатной Цинандали,
Которой даже царь владел,
Мы много нового узнали
О том, кто создал сей удел.
Князь Александр Чавчавадзе,
Герой, правитель, генерал,
Поэт-романтик, если вкратце,
И винодел, и либерал.
Он первый винзавод грузинский
Построил, не жалея сил,
И парк изящный, исполинский
Своим потомкам подарил.
А главное его творенье –
Семья, три дочери и сын,
Плоды земного вдохновенья,
Итоги жизненных картин.
Средь них цвела, как роза, Нина,
Которой выпало судьбой
Прославить этот род старинный
Любовью вечной и простой.
Супругой гения полгода
Она всего лишь пробыла
И верность предпочла свободе,
Когда трагедия произошла.
И именно в цветущем Цининдали,
В персидский собираясь путь,
Молодожёны счастья разгадали
Загадочно-возвышенную суть.
Потом здесь также побывали
Лев Пушкин, Лермонтов, Дюма
И Алазанский мир узнали,
От красоты его сойдя с ума.
Сейчас же тихая усадьба
Спит, не страдая суетой…
А мне всё видится та свадьба
И молодых приезд домой.
Полгода лишь восторгов и печали
Им выпало среди тревог,
Чтоб спас любовь их, как скрижали
Бесценные, навечно Бог.
Цинандали, 29.04.2013
В усадьбе Чавчавадзе
Цинандали, Цинандали
Нас с тобой очаровали.
Цинандали, Цинандали
Нас с тобою увлекли
В историческое ралли,
В опьяняющие дали
Винодельческой земли.
Цинандали, Цинандали –
Многие о нем мечтали…
Пьяными с тобою стали
Мы от белого вина.
Грибоедова венчали
Здесь в предвестии печали:
Он и Нина не познали
Чашу счастия до дна.
Ветры злобного Ирана
Налетели с Тегерана,
Напророчив смерти рану
В сердце русского посла.
И из вражеского стана
В алазанские туманы
Опустилась драмы мгла…
20.03.2014

Грозный
Когда то здесь «Грозная» стояла крепость,
Кавказская война полстолетия шла,
И Новую Россию недавно на крепость
Проверяли уже иные батальные дела.
Здесь арестован был давно Грибоедов
За своих декабристских друзей,
И Ермолов проявлял свое кредо
Защитника имперских рубежей…
А теперь современный Грозный,
Поднявшись из жутких руин,
Стал центром Кавказа серьёзным
С характером гордым своим.
И несмотря на страсти былые,
Примиренье народов – не миф.
Грозный, времена пройдя шальные,
Спокоен, величествен и красив.
И пусть истории новые грозы
Обходят в дальнейшем стороной
Город с именем Грозный
И необычно-яркой судьбой.
Вёшки, Рождество, 7.01.2019

Вспоминая Грибоедова
За три часа до Тегерана
Можно нынче долететь,
И как же это странно
Лихая круговерть!
А раньше Грибоедов,
Чтобы добраться сюда,
Месяца три разъездов
Терпел… Ну просто беда…
И этот прогресс помогает
Быстрее взять и открыть
Иран от края до края
И тяготы странствий забыть.
Вот вновь самолёт взлетает
В недолгий всего лишь путь,
А хочется, сам не знаю,
Его как встарь растянуть…
Тегеран, 20.11.2011

Тебриз
Солнце встало над Тебризом…
С гор, бегущих под откос,
Вдруг лёгким повеяло бризом
С запахом снега и роз.
Славные места Азербайджана,
Пережившего в течение веков
Суровые войны и раны
С примесью природных катастроф.
Здесь четырежды пришлось сражаться
Русским доблестным войскам,
Чтобы земле этой остаться
Не подвластной злым врагам.
И в Тебризе русское дыханье
Ты случайно можешь ощутить,
Как истории напоминанье,
Как веков не тронутую нить.
Грибоедов здесь три года пробыл,
«Горе от ума» стараясь сочинять,
Побеждая проявленья злобы
И храня России твердую печать.
Пережил он здесь мгновенья счастья
С молодой красавицей-женой
Накануне заговора власти -
Яростной, коварной и чужой.
Жаль, но даже дом посольский
Брошен ныне, как ненужный хлам…
Долго же Тебриз по бровке скользкой
Шёл навстречу бурям и ветрам.
А сегодня он совсем спокоен
В окруженье величавых гор,
Принаряженных зимы рукою
В снежный ненавязчивый убор.
Тебриз, 24.11.2011
Всё тяжелей…
Всё тяжелей в пути по свету
Чужие дали открывать
И восклицать: «Карету мне, карету!»
Перед скитанием опять.
Всё тяжелей от дома отрываться:
У возраста своё лото,
Но тем приятней возвращаться
Домой, в родимое гнездо.
В лесу, район Чинчага, Альберта. Канада, 22.05.2013
«Карету мне, карету!»
Всё тяжелей и тяжелей
Странствовать по свету,
И хочется кричать сильней:
«Карету мне, карету!»,
Чтоб долететь домой на ней
Сквозь километров тину,
И странствий пыль стереть скорей
С истоптанных ботинок.
Кострома, 16.08.2014
Охота к перемене мест
Мы то и дело странствуем по свету,
В охоте к перемене мест выискивая толк,
И ищем для себя назревшие ответы,
Где в мире есть заветный уголок.
Но после множества скитаний по планете,
Мы убеждаемся, увидев всё окрест,
Что ничего на свете лучше нету
Родных и хорошо знакомых мест.
Лос-Анджелес, 3.02.2018
Странствия по Грибоедову
«Хотел объехать целый свет,
И не объехал сотой доли», -
Вот этот Грибоедова завет
По собственной я понял воле,
Когда по свету колесил
Я, как Онегин или Чацкий,
По мере вёрст своих и сил,
Деля скитания по-братски
То с другом, то с моей женой,
С коллегами, с охотниками даже,
А то наедине с самим собой
Или с детьми и внуками на страже.
«Где был? Скитался столько лет!», -
Могу ответить, братцы, честно:
Шагами мерил белый свет,
А где? Да, это всем известно.
«Где лучше? Где нас просто нет», -
Таков девиз, страдающих негласно
«Охотой к перемене мест»,
Хоть это трудно и опасно.
Я все ещё во времени бреду,
Как Чацкий странный и Онегин,
Пока в пути без сил не упаду
Там, где идут на землю снеги.
Тобольск, 9.08.2019
Суть жизни
Жизнь - путешествие! Восхитись дорогой
И лови за верстою версту!
Но возвращайся к родному порогу,
Отечества дым угадав на лету.
Жизнь - путешествие по тропинке,
Бегущей туда, где увидишь не раз
Исхоженных троп живые картинки,
Сплетающих жизни пёстрый рассказ.
1.09.2019
Жизни лихо (Грибоедовские сны)
Сознанье с сердцем не в ладу!
Когда первому не снится,
Хоть просто так, хоть на беду.
Второе – не угомонится.
Тревоги возбуждают ум,
А сердце тяготят невзгоды,
И распаляют жизни шум
Бегущие безмерно годы.
Как не зачахнуть горем от ума
И победить сердечные напасти?
И неужели жизни кутерьма
Не озарит улыбкой счастья?
Дневной венчает марафон
Ночная вновь неразбериха.
Подарено нам испокон
Для испытаний жизни лихо!
Вёшки, 26.11.2020

Русский Рим, Зинаида Волконская и Гоголь
Столица Италии, начиная с пушкинской поры, не случайно стала центром притяжения не только российских поэтов и писателей, но и художников, архитекторов, композиторов, музыкантов. И так получилось, что рассвет русского присутствия в Риме пришелся на 20–40 е годы XIX века, когда в Вечном городе блистали русские салоны Зинаиды Волконской, которые вдохновляли русских поэтов и писателей. Об этом малоизвестном, но крайне интересном факте литературной истории России рассказывает историк, поэт, автор проекта «Поэтические места России» Сергей Дмитриев.
Магнит Рима для «русского сердца»
В мире не так много мест, куда в первую очередь рвется любой человек, едва задумавшийся посмотреть дальние страны. И Рим в этом ряду занимает несомненный пьедестал, притягивая к себе как всесильный магнит путешественников и любознательных. Мне тоже посчастливилось испытать на себе притяжение «Вечного города», когда еще в 1999 году я впервые прикоснулся к его прохладным колоннам, написав эти стихи:
Рим был и есть, иного не дано,
К нему приводят все дороги.
И мне однажды было суждено
Застыть в поклоне на его пороге.
Отсюда правили империей веков,
Раскинувшейся на полмира,
И нет на свете стран и языков,
Где бы не знали царственного Рима.
Затем последовали мои новые посещения древнего города, погружение в его глубокую историю и новые стихи, посвященные этому удивительному месту:
Я нутром своим
Рвусь в далёкий Рим,
Где фонтан Треви
Забурлит в крови,
Где взбодрит сильней
Древний Колизей,
А мельканье вилл
Вдруг прибавит сил.
Рим в меня вдохнёт
Времени полёт,
И с былых веков
Он сорвёт покров.
Каждый его вздох —
Бег иных эпох.
Рим душой богат,
Он мне друг и брат!
Сквозь просторов дым
Я увижу Рим!
Этот город обладал и обладает восхитительным свойством дарить энергию и действительно окрылять любого, кто попробует проникнуть в его историю, понять его тайны и чудеса, подняться над суетой сиюминутности и увидеть оттуда приметы ушедших времен:
Холмы, дома и черепицы крыш
Бегут размеренно по склонам,
И ты за ними в небеса летишь
С благодареньем и поклоном
Святому городу, которому дано
Быть странником сквозь вечность.
Ему давно на свете суждено
Длить жизни бесконечность.
И вот уже как будто за спиной
Ты ощущаешь чудо-крылья,
Которые несут тебя стрелой,
Удваивая всякие усилья.
Обратившись после нескольких посещений Рима к теме «Вечный город в русской поэзии», я поразился, какой заметный след оставил он в творчестве замечательных русских поэтов самых разных эпох: и Золотого, и Серебряного века, и послереволюционного периода. Причем было совсем не важно: удавалось ли этим поэтам посещать Рим, или они переносились в него только на волнах своего воображения. Римское дыхание все равно ощущалось в их стихотворных опытах. Юный А. С. Пушкин отдал дань такому увлечению еще в Лицее, когда в стихотворении «Лицинию» нарисовал яркую картину падения Древнего Рима:
Предвижу грозного величия конец:
Падет, падет во прах вселенныя венец.
Народы юные, сыны свирепой брани,
С мечами на тебя подымут мощны длани,
И горы и моря оставят за собой
И хлынут на тебя кипящею рекой.
Исчезнет Рим; его покроет мрак глубокий;
И путник, устремив на груды камней око,
Воскликнет, в мрачное раздумье углублен:
«Свободой Рим возрос, а рабством погублен».
Впоследствии римские и итальянские образы еще не раз волновали воображение Пушкина, которому так и не удалось побывать на берегах Тибра. Не смог увидеть Рим и рано ушедший из жизни поэт Д. В. Веневитинов (1805–1827), который в стихотворении «Италия» объяснился в любви к стране на Аппенинском полуострове:
Акварель П.Ф. Соколова. 1827 г
Италия, отчизна вдохновенья!
Придет мой час, когда удастся мне
Любить тебя с восторгом наслажденья,
Как я люблю твой образ в светлом сне.
Без горя я с мечтами распрощаюсь,
И наяву, в кругу твоих чудес,
Под яхонтом сверкающих небес,
Младой душой по воле разыграюсь.
Там радостно я буду петь зарю
И поздравлять царя светил с восходом,
Там гордо я душою воспарю
Под пламенным необозримым сводом.
А поэт Е. А. Баратынский (1800–1845), вырвавшийся в конце жизни в Европу, но скончавшийся в Неаполе, так и не увидев Рима, также оставил свой яркий гимн городу на Тибре:
Небо Италии, небо Торквата,
Прах поэтический древнего Рима,
Родина неги, славой богата,
Будешь ли некогда мною ты зрима?
Рвется душа, нетерпеньем объята,
К гордым остаткам падшего Рима!..
Примерно такие же восторженные строки о Риме оставил русский поэт И. И. Козлов (1779–1840), которому тоже было не суждено встретиться с этим городом:
Лети со мной к Италии прелестной,
Эфирный друг, фантазия моя!
Земля любви, гармонии чудесной,
Где радостей веселая семья
Взлелеяна улыбкою небесной,
Италия, Торкватова земля,
Ты не была, не будешь мною зрима,
Но как ты мной, прекрасная, любима!
А вот что писал на ту же тему А. Н. Плещеев (1825–1893):
Люблю стремиться я мечтою
В ту благодатную страну,
Где мирт, поникнув головою,
Лобзает светлую волну,
Где кипарисы величаво
К лазури неба вознеслись,
Где сладкозвучные октавы
Из уст Торкватовых лились...
Рим, начиная с пушкинской поры, не случайно стал центром притяжения не только российских поэтов и писателей, но и художников, архитекторов, композиторов, музыкантов. И тому было несколько причин. Конечно, главное заключалось в том, что эта культурная столица Европы того времени, собравшая в себе за столетия несметные культурно-исторические богатства, могла дать и давала людям творческих профессий возможность обучения, незаменимый опыт, вдохновение и общение с творческими людьми со всей Европы. И так получилось, что рассвет русского присутствия в Риме пришелся на 20–40 е годы XIX века, когда в Вечном городе блистали русские салоны Зинаиды Волконской, где 180 лет назад, в 1837 году, появился великий Н. В. Гоголь, обретший в городе на Тибре искомый рай!
А местом, которое нагляднее всего напоминает в Риме о той великолепной эпохе, является уникальный и неповторимый фонтан Треви, самый восхитительный из ожерелья римских фонтанов, нанизанных на площади и улицы древнего города.
Этот фонтан, питавшийся водой из старого акведука, до сих пор по утрам могут посещать римские старушки с особой посудой, считая воду в фонтане самой вкусной и полезной. А уникальная композиция фонтана, слившегося с резным фасадом Палаццо Поли, и сегодня напоминает величественную театральную декорацию из жизни морских богов, звучащую неповторимой музыкой журчащей воды, которую слушала в своем дворце Зинаида Волконская и которую она до сих пор может слышать в церкви кардинала Мазарини, напротив фонтана, там, где ей суждено было упокоиться навек...
Загадка Зинаиды Волконской
В судьбе этой женщины, которую, без сомнения, можно причислить к числу самых незаурядных и удивительных женщин России XIX века, многое было символично и знаменательно. Начнем с того, что ее рождением вдалеке от Родины и последующими годами жизни в европейских столицах определилась «скитальческая» судьба нашей героини, которая из прожитых ею более 70 лет в России провела всего лишь около 10 лет.
Гравюра Х.Г. Шульце
с неизвестнрого оригинала.
Конец XVIII в.
Отсюда проистекала и необычная «включенность» ее в мир европейской культуры, и знание ею 8 языков, в том числе древнегреческого и латыни, и стремление проявить себя в самых разных сферах искусства — от разнообразных музыкальных жанров до литературы и истории. Зинаида Александровна Волконская родилась 3 (14) декабря 1789 г. в Дрездене в семье князя Александра Михайловича Белосельского-Белозерского, знатного аристократа, бывшего тогда посланником России при Саксонском дворе, и Варвары Яковлевны Татищевой, которая умерла, когда ее дочери было только три года. В 1792 г. отец состоял уже в должности российского посла при дворе Сардинского королевства в Турине, и ему выпало взять на себя дальнейшее воспитание не только Зинаиды, но и других его дочерей — Марии Магдалины и Натальи.
Александра Михайловича, одного из самых образованных людей своего времени, не зря за красоту и любовь к искусству прозвали «московским Аполлоном», он писал стихи на нескольких языках, был вхож в самые именитые дома Европы, слыл меценатом, водил дружбу с Моцартом и Вольтером. Именно от отца дочь унаследовала любовь к науке и искусствам, которую князь всячески поощрял. У Зинаиды было красивое контральто высокого профессионального уровня, она замечательно рисовала, сама писала музыку и ее смело можно назвать одной из первых женщин-композиторов России, кроме того она была поэтессой, увлекалась и прозаическим жанром.
Князь Белосельский-Белозерский умер в 1809 г., когда его семья уже вернулась в Россию. И у Зинаиды начался новый этап жизни: она по настоянию родственников вышла в 1810 г. замуж за представителя благородной дворянской семьи, егермейстера (флигель-адъютанта) императора Александра I, князя Никиту Григорьевича Волконского , который был старше ее на 11 лет, и вскоре родила сына Александра, хотя ее отношения с мужем и не отличались любовной привязанностью.
Художник Ф. Лидер. 1822 г.
По долгу службы муж Зинаиды должен был сопровождать императора во время его заграничных походов после событий 1812 г., и за ним в Дрезден, Вену, Париж и Лондон следовала и жена с сыном. И именно в это время начинается роман Зинаиды и Александра I, доказательством которого выступает их сохранившаяся переписка. Многое в этих отношениях, которые не могли не повлиять сильнейшим образом на Волконскую, до сих пор остается неизвестным. Любопытно, что император знал Зинаиду еще до ее женитьбы, ведь в 1808 г. она являлась фрейлиной при Прусской королеве Луизе. Александр I обратил тогда внимание на обаятельную девушку, обладавшую музыкальным и литературным талантами.
«Только Вы умеете делать приятными всех, с кем Вы общаетесь, поскольку Вы сами одарены той любезностью, которая заставляет всех чувствовать себя рядом с Вами легко и непринужденно. Поэтому часы, проведенные рядом с Вами, доставляют истинную радость», — признавался в 1813 г. Александр I в письме к Зинаиде Волконской. «...Горю нетерпением, княгиня, пасть к стопам вашим; вчера я уже жаждал этого счастия», — и это писал молодой 24 летней красавице ни кто-нибудь, а император всероссийский, который, кстати, не очень то хотел, чтобы она занималась искусствами и писал позднее: «Искренняя моя привязанность к Вам, такая долголетняя, заставила меня сожалеть о времени, которое Вы теряете на занятия, по моему мнению, так мало достойные Вашего участия».
Конечно, близость к императору только усиливала в тот период популярность и известность молодой певицы, которая начала выступать тогда на сценах частных и государственных театров Европы, в том числе в Париже, Риме и Вероне, блистала на Венском и Веронском международных конгрессах. Благодаря княгине на сцене частного парижского театра была впервые поставлена опера Джоаккимо Россини «Итальянка в Алжире», положившая начало его популярности как композитора. После этого Волконская содействовала тому, чтобы оперы Россини блистали на парижских сценах. Сам Россини не пропускал выступлений Волконской в салонах Европы, он сочинил для нее несколько романсов и издал их с посвящением «Мадам Волконской», а русские темы, прозвучавшие в опере «Севильский цирюльник», были напеты самой Зинаидой.
Портрет с оригинала Ж.Б. Изабге.
1814 г
Увлекаясь музыкой, Волконская не забывала при этом о своих семейных обязанностях и благотворительности, которой она была привержена долгие годы. Примером этого стало усыновление Волконской в Лондоне мальчика-сироты, буквально подобранного на «тротуаре», названного Владимиром Павей (от слова «pavement» — тротуар) и ставшего частью семьи княгини.
После окончания войны и возвращения императора в Петербург, где его ждали жена и фаворитка Мария Нарышкина, отношения Александра I с Волконской сошли на нет, хотя переписка между ними сохранялась долгое время, вплоть до смерти императора, которая потрясла княгиню, написавшую кантату памяти Александра, сочинившую на нее музыку и написавшую особую «Записку» о смерти императора...
В 1817 г. княгиня с сыновьями возвращается из европейских странствий в Россию, чтобы дать им подобающее образование, прибегая при этом к услугам знаменитого пансиона иезуитов. Она пользуется шумным светским успехом, но ее тянет в ставшую почти родной Италию, осенью 1819 г. она уезжает на несколько месяцев в Варшаву, а весной 1820 г. прибывает в Рим, где останется до 1822 г. Вращаясь в высших кругах, она начинает собирать вокруг себя своеобразный «русский кружок», приглашая к себе приезжих из России писателей, музыкантов и особенно художников и скульпторов, которых в тот период в силу реализации особой программы обучения заграницей российских мастеров кисти было в Риме действительно немало. Достаточно назвать имена художников О. А. Кипренского, К. П. Брюллова, Ф. А. Бруни, С. Ф. Щедрина, В. К. Сазонова, скульптора С. И. Гальберга, архитектора К. А. Тона.
Художник Ф.А. Моллер.
1840-е гг
С. И. Гальберг, направленный в Италию Академией художеств, и потому считавшийся, как и другие художники и скульпторы, «пенсионером», в письме из Рима от 19 декабря 1820 г. рассказывал, что княгиня — «женщина прелюбезная, преумная, предобрая, женщина-автор, музыкант, актер, женщина с глазами очаровательными, наконец, та самая, которая известна в Петербурге под именем Зинаиды Волконской; она здесь живет около 8 месяцев. Она привезла с собою сюда живописца Ф. А. Бруни, который и живет у нее в доме». А 30 мая 1821 г. он сообщал уже подробности вечеров у Волконской: «Когда мы, русские пенсионеры, стали с нею познакомее, она начала приглашать нас на свои музыкальные вечера, что здесь, в Риме, называется приглашать в Академию. Мало-помалу эти музыкальные вечера превратились в оперу, и мало-помалу мы из зрителей превратились в актеров».
Известно, что Волконская в тот период не только сама написала либретто и музыку к драме «Жанна Д Арк» по «Орлеанское деве» Шиллера, но и явилась на сцене своего домашнего театра в роли французской героини. Сразу же после этой постановки Волконская поставила также в своем театре оперу Россини «Танкред» по трагедии Вольтера. И ее известный портрет в образе Танкреда написал тогда приехавший с ней из России художник Ф. А. Бруни.
Театральные постановки и встречи в доме Волконской посещали тогда и многие итальянские деятели искусств, такие вечера фактически предвосхитили знаменитые Русские салоны Зинаиды Волконской, которые на постоянной основе начали проводиться с конца 1820 х годов. До сих пор точно не установлено, в каком месте Рима Волконская собирала своих друзей в 1820–1822 гг., но это точно происходило не в палаццо Поли — не во дворце, который до 1830 г. находился в аварийном состоянии и который Волконская занимала на постоянной основе лишь с осени 1834 по 1845 г. Заслуги княгини в сфере поощрения искусств были оценены тогда в Риме ее приемом в члены знаменитой Академии Аркадии, куда входил ранее и ее отец. Причем Зинаида была принята в Академию под псевдонимом Каритеи Чидонии.
В 1822 г. Зинаида Волконская возвращается в Петербург, чтобы заниматься дальнейшим образованием сыновей, а осенью 1824 г. переезжает в Москву, вступив в период, когда по всей стране гремела слава ее салона на Тверской улице, в доме, который впоследствии станет известен как «Елисеевский магазин». «Общим центром для литераторов и вообще для любителей всякого рода искусств, музыки, пения, живописи служил тогда блестящий дом княгини Зинаиды Волконской», — вспоминал тогда А. Н. Муравьев. А вот как современница описывала апартаменты княгини: «Ее столовая зелено-горчичного цвета с акварельными пейзажами и кавказским диваном, подобным таганрогскому. Ее салон — цвета мальвы с картинами в золотых рамах, мебель обита густо-зеленым бархатом... Ее кабинет увешан готическими картинами, с маленькими бюстиками наших царей на консолях... Пол ее салона покрашен в белые и черные цвета, что превосходно имитирует мозаику. Я не могу передать, насколько все это красиво и в хорошем вкусе».
Именно в эти годы стараниями Волконской в России складывался особый тип светского салона, в котором гости, как правило, не играли в карты и не танцевали, а посвящали все время общению и искусствам, прежде всего, музыке и литературе, превращая такие встречи в эстетические вечера с музицированием, литературными чтениями, домашними спектаклями, дискуссиями и ознакомлением с новинками художественной жизни. К Волконской стремились попасть не только аристократы и знать, а все, кто причислял себя к людям творческих профессий: писатели, ученые, историки, композиторы, художники, скульпторы, архитекторы. Притяжение салонов усиливалось тем, что их хозяйка была в дружбе с А. Пушки-ным, П. Вяземским, Е. Баратынским, А. Дельвигом, Д. Веневитиновым, П. Чаадаевым, Д. Давыдовым, В. Одоевскиим, М. Загоскиным, М. Погодиным, А. Хомяковым, братьями Киреевскими и многими другими выдающимися людьми своего времени. На вечерах у княгини появлялись и выступали А. Мицкевич, польская пианистка М. Шимановская, итальянские музыканты Паини и Перуккини. Одно из самых ярких высказываний о салоне Волконской оставил Вяземский, писавший о «волшебном замке музыкальной феи», где «мысли, чувства, разговор, движения — всё было пение». «В доме Волконской,— по его свидетельству, — соединялись представители большого света, сановники и красавицы, молодежь и возраст зрелый, люди умственного труда, профессора, писатели, журналисты, поэты, художники. Все в этом доме носило отпечаток служения искусству и мысли... Помнится и слышится еще, как она, в присутствии Пушкина и в первый день знакомства с ним, пропела элегию его, положенную на музыку Геништою:
Погасло дневное светило;
На море синее вечерний пал туман.
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Пушкин был живо тронут этим обольщением тонкого и художественного кокетства...» Эта памятная встреча, описанная Вяземским, состоялась осенью 1826 г. А в начале ноября Пушкин уехал в Михайловское, и накануне отъезда, 29 октября, Волконская послала ему свой портрет и написала теплое письмо, в котором высоко оценила талант Пушкина как русского гения: «Возвращайтесь к нам. В московском воздухе легче дышится. Великий русский поэт должен писать или в степях или под сенью Кремля, а творец Бориса Годунова принадлежит городу царей. Какова же должна быть мать, зачавшая человека, чей гений есть полнота силы, изящества и простоты, который, являясь нам — то дикарем, то европейцем,— то Шекспиром или Байроном, то Ариостом или Анакреоном,— но всегда Русским, переходит от лирики к драме, от песен нежных, любовных, простых, порою суровых, романтических или язвительных, к величественному и простодушному тону строгой истории».
Именно в доме Волконской в конце декабря 1826 г. состоялась встреча Пушкина с уезжавшей в Сибирь к декабристу Сергею Волконскому — брату мужа Зинаиды, Марией Николаевной Волконской-Раевской. Зинаида окружила тогда Марию особой заботой, помогая и другим женам декабристов, в том числе Екатерине Трубецкой, что не могло не усилить в глазах властей ее неблагонадежность. М. Н. Волконская вспоминала о заботе Зинаиды: «Зная мою страсть к музыке, она пригласила всех итальянских певцов, которые были тогда в Москве... Прекрасное итальянское пение привело меня в восхищение, а мысль, что я слышу его в последний раз, делала его для меня еще прекраснее...»
Художница В.А. Дрезнина. 1951 г
Литография 1810-х г.
Пушкин был очарован Зинаидой Волконской, ценя ее приверженность высоким музам. В мае 1827 г. он послал ей свою поэму «Цыганы» и посвященное ей стихотворение:
Среди рассеянной Москвы,
При толках виста и бостона,
При бальном лепете молвы
Ты любишь игры Аполлона.
Царица муз и красоты,
Рукою нежной держишь ты
Волшебный скипетр вдохновений,
И над задумчивым челом,
Двойным увенчанным венком,
И вьется и пылает гений.
Певца, плененного тобой,
Не отвергай смиренной дани...
Зинаида Волконская: на пути к Риму
«Царица муз и красоты» на всю жизнь сохранила трепетное отношение к Пушкину, которого ей не суждено было больше увидеть после отъезда в Италию в конце февраля 1829 г. И не случайно, пожалуй, первый в мире памятник Пушкину был установлен именно Зинаидой Волконской на Аллее памяти ее римской виллы.
Возвращаясь к московским салонам, следует отметить, что Волконская была великолепным режиссером этих встреч, выступая на них певицей, музыкантом, поэтессой и даже прозаиком, читая отрывки из своих исторических произведений. Напомним, что после возвращения в Россию в 1822 г. княгиня принялась за самое интенсивное изучение русской литературы и родного языка, который до того мало знала, страстно увлеклась российской историей, ее интересовали песни, обычаи, народные легенды, она стала первой женщиной среди членов Общества любителей древностей российских при Московском университете, а ее историческое сочинение "Славянская картина V века" выдержало три издания в Париже, Москве и Варшаве. Кроме этого Волконская была автором исторической поэмы "Ольга" (она гордилась своим происхождением от Рюрика, то есть от княгини Ольги), сочиняла и печатала в журналах и альманахах стихи на русском, французском и итальянском языках, а на французском языке ею были написаны и опубликованы 4 повести.
Волконская очень ценила импровизации, и серьезная музыка и литература не случайно соседствовали на ее салонах с шарадами, шутками и эпиграммами. Самое удивительное, что в Волконской сочеталось ясное понимание и даже чутье на все талантливое в русской литературе, музыке и культуре, стремление помогать носителям этих талантов всеми возможными способами и в то же время готовность удалиться от России далеко-далеко, в ставшую, по сути, второй Родиной Италию. Кстати, именно итальянские певцы и композиторы постоянно блистали на московских салонах Волконской, связывая две страны в одну художественную цепь.
Однако неправильно было бы думать, что всё на московских салонах Волконской было идиллическим и бесконфликтным, иногда там не могло не проявляться и лицемерие, и притворство, и чрезмерное увлечение театральностью, и выпячивание кого-то в противовес другим. Тот же Пушкин, человек открытый и резкий, иногда просто уставал от театральных постановок с участием Волконской и отвергал настойчивость в уговорах обязательно что-то прочитать для публики.
Однажды, когда Пушкина долго упрашивали выступить, он в досаде и с вызовом прочел свое спорное стихотворение «Чернь», сказав: «В другой раз не станут просить». «Я от раутов в восхищении и отдыхаю от проклятых обедов Зинаиды (Дай ей бог ни дна, ни покрышки, то есть ни Италии, ни графа Риччи!)», — записал Пушкин в январе 1829 г. в письме к П.А. Вяземскому, высказавшись нелицеприятно об итальянской графе и певце-красавце Миниато Риччи (1789—1877), новом кавалере Волконской, из-за которой тот развелся со своей женой Екатериной Петровной Луниной, представительницей богатого дворянского рода, тоже имевшей прекрасные музыкальные способности и обучавшейся в Филармонической академии в Болонье. Дело в том, что поведение жгучего брюнета с чарующим голосом, уроженца Флоренции, родовитого, но не очень богатого Риччи, оставившего Лунину, многими в Москве было воспринято с осуждением, в их числе, как видим, был и Пушкин. При этом любопытно, что Риччи сам был поэтом, знал русский язык, он первым начал переводить произведения Пушкина, а также Жуковского, Державина и Веневитинова на итальянский язык и даже готовился издать в Италии Антологию русской поэзии.
Однако увлечение Волконской итальянским певцом стало ее настоящей любовью, которую она пронесла потом через всю жизнь. И этот союз, который для многих в Москве, а потом в Риме не был секретом, оказался счастливым, несмотря на то, что Волконская так и не развелась со своим мужем, вплоть до его смерти в 1844 г. (этого не хотел в первую очередь сам муж княгини, слишком сильно любивший свою супругу). А Риччи и Волконскую ждало потом еще много испытаний, в частности, в 1850 г. граф, постепенно терявший зрение, окончательно ослеп, но княгиня старалась быть рядом с ним, все более прибегая к благотворительности. Несмотря на слепоту, Риччи надолго пережил Волконскую и делал все для сохранения о ней памяти.
Вероятно, одной из главных причин отъезда Волконской в Италию в 1829 г. являлась как раз любовь к Риччи и желание ее замять скандал, а также интерес княгини к католицизму, который поначалу не афишировался, но потом в Италии, в 1833 г., привел к перемене Волконской веры и ее переходу в католичество. Этот факт не должен казаться каким-либо вопиющим, ведь Зинаида выросла в Италии, была поглощена европейской культурой, постоянно общалась с иезуитами и, как мы покажем ниже, увязывала этот шаг с помощью обездоленным и нуждающимся.
Кроме того на отъезд княгини из России повлияло изменение после декабрьского восстания и воцарения Николая I общественной атмосферы в стране. Поддержка Волконской жен декабристов привела к тому, что над ней был установлен тайный надзор полиции. Как говорилось в одном из жандармских докладов, «между дамами две самые непримиримые и всегда готовые разорвать на части правительство — княгиня Волконская и генеральша Коновницына. Их частные кружки служат средоточием всех недовольных; и нет брани злее той, которую они извергают на правительство и его слуг».
Сопровождали Волконскую в годы пребывания в Москве и различные светские толки и пересуды, связанные с тем, что в нее постоянно кто-то влюблялся, а княгиня имела свойство «играть» со своими воздыхателями. Известно, что в нее были влюблены итальянский художник и скульптор М. Барбиери, расписывавший интерьеры ее дома, поэт К.Батюшков, посвящавший ей стихи, художник Ф. Бруни, создавший несколько ее портретов, а также знаменитый А. Мицкевич, который своей влюбленностью в Волконскую разрушил свою помолвку с Каролиной Яниш. Славу «роковой женщины» подкрепляли слухи, что княгиня приносила несчастье всем, кто в нее влюбляется. Особенно потрясла многих история с поэтом Дмитрием Веневитиновым, который был моложе княгини на 15 лет, страшно в нее влюбился, в течение трех лет сгорал от этой любви и посвятил своей Музе несколько стихотворений. Волконская не отвечала ему взаимностью, но и не прогоняла прочь, даря свою дружбу. Она преподнесла ему перстень, найденный при раскопках Помпеи и Геркуланума, а поэт заявил, что наденет его перед свадьбой или смертью, и оказался прав, скончавшись вскоре от простуды и унеся заветный перстень в могилу. Волконская потом долго терзали укоры совести, она даже сблизилась на почве общего горя с матерью поэта! И как напоминание об этой истории остались стихи Веневитинова, обращенные к княгине:
Зачем, зачем так сладко пела ты?
Зачем и я внимал тебе так жадно
И с уст твоих, певица красоты,
Пил яд мечты и страсти безотрадной?
Хочется особо подчеркнуть, что сила душевного и художественного «магнита», которым обладала Волконская, многие годы притягивала к ней самые яркие таланты русской культуры. И не случайным представляется, что ей принадлежит, пожалуй, два несомненных рекорда пушкинского времени: никто не может сравниться с ней ни по количеству ее портретов — более 20, сделанных различными мастерами кисти, ни по количеству посвященных ей стихов, которые были написаны также не менее чем 20 российскими и иностранными поэтами. В этом очаровании княгиней немаловажную роль сыграла и ее необычная красота: золотые волосы и глаза «цвета цейлонского сапфира» — именно такое сочетание поразило поэта И.И. Козлова, который писал в 1826 г., незадолго до того, как ослеп:
Миниатюра Ж.Д. Мюнере. 1810-е гг.
Волшебным голосом плененный
Я только помню, что видал
Певицы образ незабвенный.
О! Помню я, каким огнем
Сияли очи голубые,
Как на челе ее младом
Вилися кудри золотые.
И помню звук ее речей,
Как помнят чувство дорогое;
Он слышится в душе моей,
В нем было что-то неземное.
На эти признания сама Волконская ответила Козлову стихами под названием «Другу страдальцу», а поэт долгие годы после утраты зрения продолжал воспевать княгиню, потеряв возможность ходить из-за паралича и храня ее драгоценный подарок — чашечку, сделанную из лавы Везувия. Не миновали чары княгини и великого поэта Николая Некрасова, который в своем произведении «Русские женщины» также указал на ее увлеченность искусством, назвав ее «царицей московского света», Северной Коринной, которая «цвет южного неба в очах принесла»:
...Я скоро в Москву прискакала,
К сестре Зинаиде. Мила и умна
Была молодая княгиня,
Как музыку знала! Как пела она!
Искусство ей было святыня.
Она нам оставила книгу новелл,
Исполненных грации нежной,
Поэт Веневитинов стансы ей пел,
Влюбленный в неё безнадежно…
Отъезд Зинаиды Волконской в Италию в 1829 г. вызвал у многих друзей княгини печальные чувства. Лучше всех их выразил Е.А. Баратынский в послании «К З.А. Волконской», в котором он писал, что из России
Где жизнь какой-то тяжкий сон,
Она спешит на юг прекрасный,
Под Авзонийский небосклон
Одушевленный, сладострастный,
Где в кущах, в портиках палат
Октавы Тассовы звучат;
Где в древних камнях боги живы,
Где в новой, чистой красоте
Рафа́эль дышит на холсте;
Где все холмы красноречивы…
Где жизнь игрива и легка,
Там лучше ей, чего же боле?
Зачем же тяжкая тоска
Сжимает сердце поневоле?..
И неутешно мы рыдаем.
Так, сердца нашего кумир,
Её печально провожаем
Мы в лучший край и лучший мир.
А вот молодой Степан Шевырев в том же 1829 г., когда Волконская решила покинуть Москву, написал в отличие от Баратынского совсем не печальное стихотворение: «К Риму древнему взывает / Златоглавая Москва / И любовью окрыляет / Хладом сжатые слова». Дело в том, что княгиня взяла Шевырева с собой в Италию в качестве воспитателя ее сыновей, и он долгое время жил рядом с Зинаидой, посвятив ей потом еще одно яркое стихотворение с характерным названием «Русский соловей в Риме»:
Миниатюра первой половины XIX в.
…Тибр и шумная дубрава
Сочетали дружный глас:
«Соловей, России слава!
Пой нам песни, радуй нас»…
Антологию стихов, посвященных княгине, можно было бы еще долго продолжать. Приведем лишь стихотворение «Зинаида Волконская», написанное в 1919 г., то есть почти ровно через сто лет после описываемых событий, забытым поэтом уже Серебряного века Леонидом Гроссманом:
Она вошла в московские салоны,
Чтоб в городе шатровых куполов
Пропеть под мерный гул колоколов
Палящие Петрарковы канцоны.
И полюбила темные иконы,
Кириллицу, славянский часослов,
Чтоб вспоминать о них среди балов
В толпе конгрессов Вены и Вероны.
Но снова Древний Рим пред ней возник,
И позабыла в дыме базилик
О бедных храмах с нищими в приделах,
Когда горящий пурпуром прелат
Пред нею пел в торжественных капеллах
Терцины католических кантат.
Русские салоны Зинаиды Волконской
Перефразируя известную поговорку, можно сказать, что «у каждого свой Рим!». И я не единожды убеждался в правоте этого вывода, когда в разные годы и сезоны встречался с городом на Тибре. Первым делом я, конечно, не мог не сравнивать Рим и Москву, находя в этих городах много похожего и общего, прежде всего, их историческую глубину и культурный масштаб. В моих стихах это сравнение звучит так:
Семь холмов у Рима,
В Москве их тоже семь.
Нас связяла незримо
Одна и та же сень
Истории великой
И гордых рубежей.
Мелькают всюду лики
Ушедших в бездну дней.
Рим первый — вечно первый,
Но есть и Третий Рим!
И сколько бед и нервов
Досталось им — двоим.
Москва и Рим похожи
Величием своим.
Но лишь Москва моложе,
А старше древний Рим!
В Риме любого приезжего поражает сочетание и переплетение как будто бы трех различных городов: древнего, античного, застывшего в развалинах и стенах Колизея, неживого и величественного в своем молчании; Рима эпохи Возрождения и расцвета барокко, витиеватого и резного по своей сути, броского и журчащего многочисленными фонтанами; а также современного города, который каким-то образом умудрился вжиться в первые два образа, переплестись с ними, внеся в них живую струю не затихающей вокруг жизни с толчеей, суматохой и наплывами бесконечных туристов. И не мудрено, что лично мне с первых дней знакомства с Вечным городом ближе, понятнее и привлекательнее был и остается Рим в маске барокко, которую лучше всех олицетворяет своими творениями неповторимый Бернини. Отсюда вывод:
Создан Лоренцо Бернини в 1642 г.
Античный Рим и Рим Бернини!
Предпочитаю город я второй —
Рим возрожденческой картины,
Не мёртвый Рим, а Рим живой!
Поля руин иль блеск барокко?
Языческий Рим иль Рим святой?
Не сомневаясь уж нисколько,
Я выберу для сердца Рим второй!
Рим Бернини — это неповторимая песня улиц, площадей, дворцов, храмов, домов, фонтанов и парков, бегущих сквозь века римской истории к дням нынешним. И только стихи могут выразить такое восприятие Вечного города, которое всегда сопровождает меня во время прогулок по его просторам:
Полёт, масштаб, помпезный дух
Вдохнул умело в Рим Бернини
И завершил узором линий
Барокко несравненный круг.
Сравнится может он вполне
И с Микеланджело великим.
Рим не был бы столь разноликим
Лишь с Возрождением наедине.
Бернини внёс на полотно
Живые, трепетные краски,
Надев на Рим иные маски,
Как это было Риму суждено.
Собор Петра, фонтанов ряд,
Мосты, скульптуры и поныне
В честь искромётного Бернини
Проводят праздничный парад.
А площадь у фонтана Треви и палаццо Поли, которая по некоторым данным является одним из самых посещаемых мест в мире, можно назвать квинтэссенцией римского великолепия эпохи барокко. И очень важно, что архитектор Николо Сальви создал этот фонтан именно по чертежам Бернини, а скульптуры для него создавали именитые скульпторы Пьетро Браччи и Филиппо Вале. Их общими усилиями была явлена миру жемчужина итальянского искусства в виде необыкновенной композиции скалистого острова, врезанного в палаццо Поли.
И как важно, что именно с этим местом связаны самые яркие приметы Русского Рима. Именно здесь блистали салоны Зинаиды Волконской, которая в феврале 1829 года расстается с Москвой, направляясь в Рим вместе с сыновьями и поэтом-филологом С.П. Шевыревым, готовившим их к поступлению в университет. По дороге в Италию путники совершили вояж по Европе, специально заехав в Веймар, чтобы встретиться с Гете. Княгиня во время этого вояжа вела свой дневник, который под названием «Отрывки из путевых воспоминаний» был опубликован вскоре в альманахе "Северные цветы" на 1830 г. (СПб., 1829). Приведем лишь несколько цитат из этих воспоминаний, убедившись и в достоинствах яркого слога княгини, и в глубине ее размышлений, и в ее любви к Италии.
«Между Пёснеком и Шлейцом. 13 го мая. Как трудно ехать по каменистой неровной дороге! А тяжелее тому, который непрестанно смотрит на трудный путь свой, считает все камни, которые могут ранить его ногу. Взгляни он на синие горы вдали, на гордые скалы, на извивающуюся крутую дорогу, в которой он спустился, и тогда запыхавшаяся его грудь вздохнет от чувства и восторга: так поэт, смотря на прошедшие скорби души, на гонения, на клевету, на невозвратные утраты, находит в них краски поэзии и красоты, и в мучительном водовороте страдания пьет вдохновение и славу.
Вчера долго я глядела на вечернюю звезду, на предводительницу хора небесных сестер своих. Она казалась мне сребристее, живее, так как видала я ее на небосклоне южных стран, — и так сегодня погода очарована для взоров наших одним ожиданием завтрашнего наслаждения. Вот другая звезда, но эта вдруг, отделившись от эфирного поля, пала... Куда?.. Туда же, куда пропадают и звуки эоловой арфы в тишине ночи, и авзонийское пение, внушенное мгновенным восторгом, и слова страстно-речивой души в уединении.
Путешествие — какой изобильный источник для мыслящего! Там называют горами, что далее пригорки; что здесь дремучий лес — там редкая роща; то, что там пропасть, здесь долина; что для того восток, для другого север; для меня отечество, для тебя чужбина; но могут ли быть края совсем чужие для истинного филантропа? Отечество! Священное имя, священный край, где над гробницами предков наших раздается наш родной язык. Отечество! Ты наш родитель, а братья и друзья — всюду, где жизнь пылает и сердце бьется. Славянин! Гордись родиной, дари ее жизнью своею, но простирай руку всем, ибо великое родство соединяет на земле сердца, любящие бессмертную истину Создателя и красоту Его создания.
22 мая. Чем едешь далее, тем более природа теряет свою жестокость; реки текут в Италии свободнее, легче; наречие германское сливается с авзонийским; растения горные срастаются с благоуханными растениями южными, цвет взоров превращается из небесного в черный, как уголь; и смуглость лиц, и богатство природы знаменуют одно и то же — присутствие жаркого деятельного солнца. Сельские церкви, распятия на полях, образы Святых и Богоматери становятся изящнее, пестрота и нелепость произведений грубых изменяются в простые и приятные формы, и все предвещает родину прекрасных линий. Как непостоянно воображение человека! Огромные горы, которыми я долго восхищалась, мне теперь кажутся тюрьмою, и я скажу с нашим Пушкиным:
Мне душно здесь, я в лес хочу! —
но в лес лавровый... Вот скалы становятся еще выше; камни, как черепа исполинские, остановились на покате крупных гор, глядят и скрежещут на смелого прохожего. "Тут горные духи их набросали", — сказал нам тамошний житель и, сказавши, прошел мимо их спокойно…
В тот же день вечером. Река течет в долине, это Брента… но я ее еще не узнала. Берега ее пусты, народ скучен. Альпы над ней; но вот она: вот веселые, белые селения; вот сады, из которых валятся, как из рога изобилия, сочные плоды и текут ручьями нежный шелк и сладкие вина; вот густые гирлянды из виноградных листьев, оне своенравно сплетаются то с диким, то с плодовитым деревом. Кипарисы, как исполинские чернецы, подъемлются над плакучими ивами. Вокруг меня грация природы и звучный язык... Я в Италии! Повторяю с поэтом: "Италия, Италия, о ты, приявшая от жребия несчастный дар красоты с роковым венком бесконечных бедствий, которые, печальная, являешь на челе своем"!
Для чего же ты так прелестна, для чего не так же сильна? Тогда более страха и менее любви внушала бы ты тем, которые будто томятся пред красотою твоего взора, а вызывают тебя на смертный бой.
После Виченцы и Падуи. Природа и возделывание — все в Италии согласно и прелест-но для взора. Гирлянды тройные, многосложные, по обеим сторонам дороги висят на деревьях и составляют густые лиственные сени. Они обнимают нивы и межуют соседние поля. Конечно, Шекспир здесь бы соединил хоровод своих духов игривых вокруг прихотливой волшебницы лугов, и прихоти ее здесь бы умолкли...
Венеция некогда гордая невеста Океана! Сколько раз взоры мои обнимали твои лагуны, острова и гармонические здания! Как часто я летала по твоим каналам и мечтала видеть в черных продолговатых гондолах то сны прошедшей твоей славы, то образ скоротечных часов живых ночей италианских! Волны морские могут залить тебя, твои дворцы, твои храмы, смыть радужные краски Тициана, но имя твое, Венеция, звучит на золотой лире Байрона. Стихи великого Поэта есть неприступный, неразрушимый пантеон.
Флоренция. Первое желание души любящей — изливать в дружескую душу все впечатления приятные и все чувства очаровательные, кои я пью с воздухом Италии. Хотела бы излить их в письме к другу, но друг мой в печали: так могу ли напомнить ей о блаженстве земли?..
Тоскана, Пиза. 12 го июля. Вся Тоскана есть улыбка, все там отвечает взору нашему: мы довольны, мы счастливы. Берега Арно угощают жителей золотыми колосьями, черным виноградом и тучными оливами. Так на Горациевых пирах столы гнулись под богатыми дарами садов и душистые цветы венчали чаши пенистого фалерна».
Перед нами талантливая путевая проза женщины-путешественницы, стремящейся увидеть красоты дальних стран и в тоже время думающей о своем Отечестве и славянских корнях: «Отечество! Священное имя, священный край, где над гробницами предков наших раздается наш родной язык». Княгиня сформулировала даже в своих записках завет истинного патриота, который открыт миру: «Гордись родиной, дари ее жизнью своею, но простирай руку всем, ибо великое родство соединяет на земле сердца». Самое удивительное, что это написала женщина, которая вскоре после этих строк поселится в Риме почти на 33 года и лишь дважды (в 1836 и 1840 гг.) за этот период посетит Россию на краткое время. Выходит, что скитальческая судьба, предначертанная девочке, родившейся и долго жившей в Европе, разыграла особую пьесу с княгиней, которая любила Россию, ценила и знала ее историю и всячески помогала гениям и талантам русской культуры. Видимо, высшим силам было угодно, чтобы она уехала в Вечный город и именно там создала «русский уголок», в котором могли бы находить пристанище, творить и общаться с мастерами европейской культуры деятели искусств из России. Ведь не случайно же еще в 1828 г. Волконская писала об Италии князю Вяземскому: «Это страна, где я прожила четыре года, стала моей второй родиной: здесь у меня есть настоящие друзья, встретившие меня с радостью, которой мне никогда не оценить в достаточной мере… Все мне любезно в Риме — искусства, памятники, воздух, воспоминания».
Следует подчеркнуть, что за годы жизни в Риме Волконская сменила много адресов, и не правильно было бы считать, что она проводила свои салоны только в палаццо Поли и в своей римской вилле. Благодаря поискам исследователя Ванды Гасперович?? в ватиканских архивах были установлены следующие сроки и места пребывания Волконской и ее семьи в городе на Тибре с 1829 по 1862 г.:
c осени 1829 по лето 1832 г. на виа Монте Брианцо, д. 20;
c осени 1832 по лето 1834 г. в гостинице Минерва на одноименной площади, в которой останавливались многие знаменитые люди;
c осени 1834 (в 1839 г. в Рим переехал на постоянное жительство муж княгини Н.Г. Волконский) по весну 1845 г. на пьяцца Поли, д. 88 в палаццо Поли;
c осени 1845 в течение многих лет на виа дельи Авиньонези, д. 5, где Волконской был основан семейный приют. Кроме того в документах упоминаются и дома на виа дей Луккези, на виа Арачели и на виа Маронити, в районе Треви, где Волконская жила до смерти и где она скончалась в 1862 г. Этот дом не сохранился.
Мы можем смело утверждать, что свои «русские встречи» Зинаида Волконская начала проводить уже в конце 1829 г., постепенно увеличивая круг тех, кто посещал ее салоны, которые, без сомнения, получили наибольший взлет, когда они проходили в палаццо Поли. Примером ранних салонов княгини стало пребывание в Риме, начиная с 18 ноября 1829 г., по приглашению княгини Адама Мицкевича и его друга А.Э.Одынца. В это время княгиня жила на парадном этаже дворца Ферруци на Монте Брианцо, 20, на берегу Тибра с видом на замок Святого Ангела (этот дворец не сохранился), и ради приехавших гостей в ее доме происходил целый ряд встреч, в которых принимали участие двое ее сыновей, ее сестра Мария Магдалина Власова, Степан Шевырев, Миниато Риччи, Карл Брюллов, Федор Бруни, Александр Тургенев, итальянские музыканты, художники, священники, кардиналы и т.д. Княгиня показывала гостям красоты Рима и его предместий, устроив им посещение бала у посла России в Ватикане князя Г.И?. Гагарина в его дворце?, который тоже был своеобразным «русским островком» Рима.
Художник О.А. Кипренский. 1830 г.
Важнейшее значение в дальнейшей судьбе русских салонов Волконской стало ее решение в 1830 г. построить виллу, адрес которой сохранился в современной топонимике Рима: Piazza di Villa Wolkonsky. Княгиня купила участок земли на Эсквилинском холме, в пригороде Рима, неподалеку от Латеранской базилики Иоанна Крестителя (San Giovanni in Laterano) и церкви Санта-Скала («Святая лестница»). Там в то время еще находились сельские угодья, а рядом сохранился древний акведук, сооруженный императором Клавдием в 52 г. н.э. По распоряжению княгини акведук был отреставрирован, став украшением виллы и ее прекрасного романтического парка с множеством роз, цветов, кустарников и деревьев, а также аллеями, дорожками, гротами и прудами. Парк украшали многочисленные статуи, античные вазы и амфоры. А само здание было построено по проекту итальянского архитектора Джованни Аззури, в нем хозяйкой было собрано внушительное собрание рукописей, картин и редких книг.
Построив виллу, Волконская в зависимости от сезонов, состава участников и поводов для встреч собирала свои салоны то в римских апартаментах, то на вилле. И как это уже было ранее в Риме, в 1820—1822 гг., а потом в Москве в 1824—1829 гг., ее «русский кружок» стал притягивать к себе многих представителей итальянского искусства, живших или приезжавших в Вечный город на краткое время иностранных художников, музыкантов, писателей и архитекторов, в первую очередь российских. Перечислим здесь неполный список мастеров русской культуры, которые в разное время и с разной интенсивностью посещали салоны Волконской: Николай Гоголь и Василий Жуковский, Александр Тургенев и Петр Вяземский, Степан Шевырев и Михаил Погодин, Николай Языков и Иван Киреевский, Михаил Глинка и Василий Стасов, Карл и Александр Брюлловы, Александр Иванов и Самуил Гальберг, Федор Бруни и Сильвестр Щедрин, Орест Кипренский и Василий Сазонов, Петр Басин и Федор Матвеев, Федор Иордан и Петр Орлов, Федор Буслаев и Константин Тон.
А вот имена зарубежных гостей салонов, которые могут украсить любые списки мастеров мировой культуры: Джакомо Россини и Гаэтано Доницетти, Бертель Торвальдсен и Антонио Канова, Джоаккино Белли и Виктор Гюго, Адам Мицкевич и Вальтер Скотт, Анри Стендаль и Фенимор Купер, а также, вероятнее всего, Александр Дюма, описавший палаццо Поли и фонтан Треви в романе «Граф Монте-Кристо». Пожалуй, в Европе того времени вряд ли можно было найти более насыщенное «культурной энергией» место, чем салоны Волконской, на которых происходило взаимовлияние культурных традиций разных стран. Княгиня была проводником и популяризатором русской культуры в Европе и в тоже время она способствовала перенесению лучших достижений европейского искусства на русскую почву. Благодаря помощи княгини русские художники получали заказы от итальянской и европейской аристократии, а музыканты и композиторы имели возможность становиться известными в городе на Тибре.
Зинаида Волконская на склоне лет
Самое главное заключалось в том, что Волконская в Риме постоянно и бескорыстно помогала всеми возможными способами — от финансов и временного приюта до душевного участия — россиянам, оказавшимся по той или иной причине в Риме и нуждавшимся в помощи. Наиболее наглядно это показывает пример ее отношений с Н.В. Гоголем, о котором мы расскажем ниже. А здесь упомянем лишь о ее поддержке князя П.А.Вяземского в то время, когда его девятнадцатилетняя дочь Прасковья скончалась во время путешествия Вяземских в Италию в марте 1835 г. и была похоронена в Риме. Княгиня не только помогала и успокаивала князя и его жену, взяв на себя заботы о могиле их дочери, но и написала стихотворение «Князю П.А.Вяземскому на смерть его дочери», прекрасно иллюстрирующее ее душевные качества:
Художник Ф.А. Бруни. 1835 г.
В стенах святых она страдала,
Как мученица древних лет;
Страдать и жить она устала;
Уж все утихло... девы нет!
И Кипарис непеременной
Стоит над девственной главой,
Свидетель тайны подземельной,
И образ горести родной!
Ты едешь... но ее могилу
Оставишь мне не сиротой:
Так солнца заменяет силу
Луч месяца в ночи святой!
Волконская умела дружить и хранить память о тех, кто ей был близок и дорог. В 1837 г., когда весть о гибели А.С. Пушкина достигла Рима, княгиня распорядилась установить неподалеку от акведука небольшую стелу-обелиск в память о поэте на своей вилле. Это был, по сути, первый памятник Пушкину в мире, рядом с которым потом размещались стелы, обелиски и камни в честь других друзей и близких Волконской: Баратынского, Карамзина, Веневитинова, Жуковского, Каподистрии, Гете, Байрона, Вальтера Скотта, Мицкевича, а также родственников княгини и даже ее прислуги. Там же был установлен и бюст императора Александра I на постаменте из куска гранита знаменитой Александровской колонны с Дворцовой площади северной столицы. Княгиня первоначально создавала у себя на вилле из этих стел и обелисков две Аллеи — Аллею друзей и Аллею воспоминаний (памяти об ушедших). Но с течением времени все перепуталось: время брало свое, и все больше друзей уходили туда, где оставалась только память…
Красочное описание виллы Волконской оставил историк М.П. Погодин: «Вилла княгини Волконской за Иоанном Латеранским прелестна — домик с башенкою, впрочем, довольно обширною, по комнате в ярусе, выстроен среди римской стены и окружен с обеих сторон виноградниками, цветниками и прекрасно устроенными дорожками. Вдали виднеются арки бесконечных водопроводов, поля и горы, а с другой — римская населенная часть города и Колизей, и Петр. Всего более меня умилил ее садик, посвященный воспоминаниям. Там под сенью кипариса стоит урна в память о нрашем незабвенном Дмитрии Веневитинове».
Рисунок А. Хертеля. 1866 г.
Возвращаясь к салонам Волконской, укажем, что они действовали в Риме долгие годы, но начали сходить на нет примерно с 1844—1845 г., когда после смерти мужа княгиня все более погружалась в благотворительную деятельность, в том числе по помощи обездоленным и поддержке приютов. Этой деятельностью Волконская начала заниматься почти сразу по прибытию в Рим, что косвенно, вероятнее всего, повлияло на ее решение принять католичество. Дело в том, что это обращение, согласно надписи на мраморной плите в часовне дворца семейства Риччи на виа Джулия (именно в этом дворце жил постоянно со своими родственниками друг и возлюбленный Зинаиды Миниато Риччи), состоялось 2 марта 1833 г. в церкви Сан Карло э Бьяджо ай Катинари, при которой в 1832 г. был основан Институт «Дочек Божественного попечения», занимавшийся помощью сиротам. Княгиня сотрудничала с этим приютом, как и ее возлюбленный граф Миниато Риччи, который в то время занимал пост руководителя районов Парионе и Святого Евстахия, к которому относилась упомянутая церковь.
Литграфия П.И. Разумихина
с оригинала К.П. Брюллова.
1835-1839 гг.
На такое важное решение Волконской повлияло и то, что в 1832 г., собираясь в Россию, она тяжело заболела в городе Бальцано. Как писал сопровождавший княгиню Степан Шевырев, «наш ангел был готов улететь на небо, но друзья удержали его за крылья, и Бог оставил его нам, так как здесь внизу тоже нужны хорошие люди…» Позднее княгиня признала, что «мне не удалось отправиться туда, куда меня звал мой долг, то есть в Россию… За мной ухаживали мои дорогие итальянцы, столь славные своим добрым нравом и характером. Они решили, что я должна вернуться в Рим». Получается, что в Риме княгиня нашла истинных друзей, что многое объясняет в ее поведении.
О последних годах жизни Волконской в Риме известно не так уж и много, бытует версия, что она умирала чуть ли не в нищете, потратив все свои деньги на благотворительность, в том числе при участии католических священников, пользовавшихся будто бы излишней добротой и щедростью княгини. На самом деле, Волконская по собственной инициативе брала на себя обязательства, участвовала в самых разных благотворительных мероприятиях, сотрудничая не только с кардиналами и епископами, но и простыми священниками. Она в конце жизни все сильнее выбирала милосердие, а не служение музам. Из конкретных дел княгини можно упомянуть ее участие в организации часовни для дома бедных девочек в районе Монти с преобразованием затем ее в больницу для престарелых монахинь, в создании сельскохозяйственной колонии для детей от 5 до 18 лет, а также семейного приюта.
По свидетельству исследовательницы биографии княгини Ванды Гасперович, за несколько лет до смерти Волконская приняла решение стать светской монахиней ордена Святого Франциска , и ее можно было часто встретить в районе Треви в простом черном платье помогающей обездоленным. Маркиз Де Грегорио, хорошо знавший княгиню, вообще утверждал, что она носила тогда «убогое, потертое» платье, выходя из дома, «как бедная женщина самого низкого общественного сословия… Она жила на виа дельи Авиньонези, в небольшой квартире… Она жила с незамужней сестрой, княжной Марией, также исключительно благочестивой женщиной. Я много раз видел их за едой. Стол был умерен и отображал характер сотрапезниц».
Вот так скромно и кротко проводила свои последние годы женщина блиставшая в аристократических кругах России и Европы так, как никакая другая. Скончалась Зинаида Волконская 24 января (5 февраля) 1862 г. по причине простуды, которая была получена, согласно существующему преданию, после того, как княгиня отдала свое пальто на улице какой-то нищей женщине. Есть версия, что Зинаида Волконская завещала похоронить себя в знаменитом соборе Святого Петра в Ватикане. В этой просьбе ей было отказано, но княгине заранее удалось купить места для захоронений себя и своих родственников в стене одного из приделов церкви Святых Винченцо и Анастазио (Santi Vincenzo e Anastasio), известной также как храм Мазарини, прямо напротив палаццо Поли на площади фонтана Треви.
Художник П. Орлов. XIX в.
В подземелье этой церкви ранее были захоронены урны с желудками двадцати двух понтификов, чьи имена выбиты на двух больших плитах в апсиде, поэтому церковь Мазарини считалась одной из самых почитаемых в Риме. На похороны княгини, которую в Риме считали и называли «блаженной», пришла «огромная толпа простых людей».
Но вот причуда судьбы! В 2003 году решением папы Иоанна Павла II церковь Святых Винченцо и Анастазио была передана в пользование Болгарской православной церкви, и получается, что княгиня, перешедшая в католичество, в какой-то степени вернулась в лоно православия или стала символом объединения двух церквей. В той же церкви покоится прах мужа княгини Н.Г.Волконского и ее сестры Марии Александровны. Что касается ее сыновей, то Александр Никитич Волконский (1811—1878) пошел по стопам своего деда: он долгое время был на дипломатической службе, исполнял обязанности чрезвычайного посланника в Саксонии, в Неаполе и Испании, дослужившись до тайного советника. Увлекался при этом, как и его мать, искусством, был собирателем живописи и скульптуры, очень любил город на Тибре, написав книгу «Рим и Италия средних и новейших времен» остался верен православию и имел большой авторитет в ватиканских кругах. А приемный сын Волконской Владимир Павей остался жить в Риме, где и умер в 1878 г., он стал членом личной почетной папской гвардии, исполнял при папском дворе должность знаменосца, выступая иногда переводчиком с русского языка для кардиналов Ватикана.
Что касается виллы Зинаиды Волконской, то ее ждали удивительные метаморфозы. В 1923 г. наследники княгини — ее внучка Надежда Ильина, приемная дочь сына Александра, и ее муж Владимиро Кампанари — продали виллу итальянскому правительству, которое накануне Второй мировой войны передало ее под резиденцию посла Германии. В 1938 г. именно на этой вилле останавливался Гитлер, позднее там бывал Геринг. Некоторое время в ней располагалась даже штаб-квартира гестапо, где проводились и пытки, и расстрелы арестованных. С 1947 г. вилла перешла в распоряжение Великобритании и в ней до сих пор находится резиденция посла этой страны в Италии, в которой несколько раз останавливалась при посещении Рима английская королева Елизавета.
Портрет 1878 г.
Жаль, но суровые ветры времени и нерадивость сменявшихся хозяев не сберегли на вилле Волконской подавляющую часть примет и памятных знаков Русского Рима: почти ничего не сохранилось на Аллее воспоминаний и на Аллее друзей, которые с таким трепетом создавала когда-то Волконская. Не дожила до наших дней в нетронутом виде и та самая памятная пушкинская стелла. А вот бюст императора Александра I, которого хозяйка виллы ценила так высоко, все-таки сохранился: он находится в глубине парка виллы.
У меня, как у поэта и историка, нынешняя недоступность виллы для простых россиян, которые хотели бы воочию увидеть признаки самого знаменательного и удивительного периода присутствия русских в Риме, вызывает печальные чувства: хорошо было бы иметь здесь музей русско-итальянских культурных связей, он бы без сомнения украсил город на Тибре! И остается опять обращаться к стихам, чтобы выразить свои эмоции:
У виллы Волконской
Аллея памяти чистой и друзей Аллея
Встречали русских в Риме в те далёкие года,
Когда Волконская, мир Родины лелея,
Их создала на вилле — как никто и никогда.
То был России островок в Италии приметный,
Где Гоголь «Души мёртвые» в саду писал…
Но он исчез в годах грядущих, незаметно,
И памятников ряд в безвестности пропал.
Теперь здесь уголок Британского посольства,
Закрытый и для русских, и почти для всех…
Но дух витает Родины, тоски и беспокойства
Над виллой, где давно не слышен смех.
Гоголь как квинтэссенция Русского Рима
У русской литературы есть одна удивительная особенность, еще не осмысленная и оцененная до конца, по крайней мере, она еще не стала предметом особого исследования. Речь идет о том, что многие и многие шедевры русской литературы рождались и создавались вдалеке от Родины, как будто именно оттуда, издалека, из-за рубежа, Россия видится лучше и четче, как в увеличительное стекло. И не важно, почему тот или иной писатель оказывался в далеких краях — по долгу службы, гражданской или военной, из-за страсти к путешествиям и познанию иных стран или по причине вынужденной эмиграции и разлуки со своим Отечеством.
Одним из первых эту эстафету открыл Александр Грибоедов, который в 1820 г., находясь в Тавризе на дипломатической службе, задумал написать свою бессмертную комедию «Горе от ума» и именно в Иране сделал первые ее наброски. Федор Тютчев также по дипломатическим обязанностям провел в Мюнхене и других местах Европы более 20 лет, и именно в эти годы он создал лучшие образцы своей бесподобной лирики, наполненной думами о Родине. А далее последовали созданные в Европе тургеневские романы, в том числе роман «Дым», написанный в Баден-Бадене, роман «Игрок» Достоевского, рожденный под звуки скачущего шарика рулетки, а еще позже — творения Бунина, Куприна, Мережковского, Бальмонта, Игоря Северянина и многих других, познавших тяготы изгнания…
Однако самым ярким примером «удаленного от Родины» литературного творчества был и остается «римский эксперимент» Николая Васильевича Гоголя, который в общей сложности провел за границей из почти 43 лет своей жизни около 10 лет. Впервые Рим открылся писателю 25 марта 1837 г., когда он приехал в него продолжать работу над «Мертвыми душами», начатыми в Швейцарии и Париже, а в последний раз — уже почти проездом — писатель посетил Вечный город в октябре-ноябре 1847 г. И из этих насыщенных десяти лет Гоголь чуть более 3 лет и 8 с половиной месяцев отдал именно Риму. Казалось бы, не так уж и много! Но что это были за годы! (Илл.041)
Беспокойный, скитальческий характер Гоголя привел к тому, что в течение тех самых заграничных лет он посещал Рим, то живя в нем подолгу, то находясь там совсем недолго, 9 раз. Укажем время пребывания писателя в Вечном городе: 1. Конец марта — конец июня 1837 г.; 2. Ноябрь 1837— июль 1838 г.; 3. Вторая половина октября 1838 г. — начало июня 1839 г; 4. 25 сентября 1840 — середина августа 1841 г; 5. Начало октября 1842 — начало мая 1843 г.; 6. Конец октября 1845 г. — начало мая 1846 г.; 7. 12—14 ноября 1846 г.; 8. Середина мая 1847 г.; 9. Октябрь—ноябрь 1847 г. Получается, что больше всего времени Гоголь пробыл в Риме, когда он как «перелетная птица на зимовке» 5 раз безвыездно жил в городе на Тибре с осени до конца весны или лета.
«Римская эпопея» писателя достойна самого подробного изучения, и не случайно ее описанию посвящено несколько серьезных исследований (назовем здесь лишь три книги: Риты Джулиани «Рим в жизни и творчестве Гоголя, или Потерянный рай» (М., 2009), Валентины Виноградовой «По римским адресам Гоголя» (М., 2014) и Т.Л. Мусатовой «Новая книга о Гоголе в Риме» (Том 1. М., 2017). В настоящем издании мы вынуждены остановиться только на основных вехах «римской эпопеи» автора «Мертвых душ», в том числе связанных с русскими салонами Зинаиды Волконской.
В 1827 г. молодой Гоголь, будучи студентом Нежинской гимназии и пробуя свои силы в поэзии, напророчил себе в стихотворении «Италия» дальнейшую судьбу:
Италия — роскошная стран!
По ней душа и стонет, и тоскует.
Она вся рай, вся радости полна,
И в ней любовь роскошная веснует.
Далее следовали яркие описания автором итальянских красот, но главное заключалось в беспредельном стремлении писателя в Италию, в этот рай на Земле, как определил для себя это место Гоголь еще в юношеские годы. А встречи с «роскошной страной» и Римом ему пришлось ждать еще 10 лет. Причем Рим далеко не сразу приобрел для Гоголя черты райского места, где он вожделенно хотел жить и творить. В первый свой приезд в город, продлившийся с конца марта по июнь 1837 г., писатель скорее присматривался к Вечному городу, тщательно обследуя все его уголки и обойдя его вдоль и поперек. Он снял квартиру у домовладельца Джованни Мазуччи на Виа Изидоро (Via Isidoro), 17 около площади Барберини и церкви Святого Исидора, в районе, где уже долгие годы любили снимать для себя жилье русские художники, отправлявшиеся в Италию на стажировки. Именно на этой квартире Гоголь написал две первые главы «Мертвых душ». Интересно, что это место находится всего лишь в нескольких минутах ходьбы от дома № 126 по Виа Феличе (Via Felice, ныне Via Sistina), буквально — улицы Счастья, где на третьем этаже здания в квартире, арендованной у старика по фамилии Джузеппе Челли, Гоголю суждено будет вскоре обрести свое постоянное и самое любимое место пребывания в Вечном городе.
А пока Рим показался Гоголю каким-то обычным и не совсем уж великим городом. «Мне кажется, — писал он Александру Данилевскому, — что будто бы я заехал к старинным малороссийским помещикам. Такие же дряхлые двери у домов, со множеством бесполезных дыр. Блюда все особенные, все на старинный манер. Везде доселе виделась мне картина изменений. Здесь все остановилось на одном месте и далее нейдет». Но вот оказавшись в Женеве в сентябре 1837 г. писатель почувствовал вдруг неодолимое желание вернуться в Рим и, переждав карантины, вызванные эпидемией холеры, устремился в город на Тибре, признавшись Жуковскому в своем порыве: «Наконец я вырвался. Если бы вы знали, с какой радостью я бросил Швейцарию и полетел в мою душеньку, в мою красавицу Италию. Она моя! Никто в мире ее не отнимет у меня! Я родился здесь. Россия, Петербург, снега, подлецы, департамент, кафедра, театр — все это мне снилось. Я проснулся опять на родине…Как будто с целью всемогущая рука промысла бросила меня под сверкающее небо Италии, чтобы я забыл о горе, о людях, о всем и впился в ее роскошные красы. Она заменила мне все».
Прибыв в Рим в конце октября 1837 г., Гоголь был просто ошеломлен его великолепием, обретя в душе свет, спокойствие и желание безостановочно творить. В апреле 1838 г. в письме к своей ученице Марии Балабиной писатель признавался: «И когда я увидел наконец во второй раз Рим, о, как он мне показался лучше прежнего! Мне казалось, что будто я увидел свою родину, в которой несколько лет не бывал я, а в которой жили только мои мысли. Но нет, это все не то, не свою родину, но родину души своей я увидел, где душа моя жила еще прежде меня, прежде, чем я родился на свет».
В этих словах слышится что-то мистическое, метафизическое и совсем нереальное: писатель обрел «родину своей души», где она жила еще до его рождения, именно в Риме. Он понял при этом «душу Вечного города», сроднился с ней своей душой и обрел для себя тот самый «взыскуемый рай», о котором другие могут только мечтать, да и то только в загробной жизни. Приведем колоритные выдержки из писем и записей писателя, свидетельствующие о его безграничной любви к Риму и о том, что в душе своей мастер прозы Гоголь был, конечно, чутким и выразительным поэтом:
«Что за небо, что за дни…»
«Пью не напьюсь, гляжу не нагляжусь…»
«Кроме Рима, нет Рима на свете…»
«Влюбляешься в Рим очень медленно, понемногу — и уж на всю жизнь…»
«Что за земля Италия!.. Всё прекрасно под этим небом…»
«Родину души своей я увидел, где душа моя жила ещё прежде меня…»
«В душе небо и рай…»
«Рим больше, чем счастье и радость…»
«Рим увлёк и околдовал меня…»
«Всё, кажется, дышит и говорит под этим небом…»
«Рим как святыня, как свидетель чудных явлений…»
«Лето — не лето, весна — не весна…»
«Тут всё живо, всё кипит…»
«Вся Европа для того, чтобы смотреть, а Италия для того, чтобы жить…»
«В мою душеньку, в мою красавицу Италию…»
«Вся земля пахнет и дышит художниками…»
«Кто был на небе, тот не захочет на землю…»
«В мой обетованный рай, в мой Рим, где вновь проснусь и окончу труд мой…»
«Мне нужен был душевный монастырь…»
«Нет лучшей участи, как умереть в Риме…»
«О России я могу писать только в Риме. Только там она предстоит мне вся, во всей своей громаде…»
А вот и разгадка того симбиоза, который получился от союза Рима и Гоголя: писатель мог писать о России и видеть ее «во всей громаде» только в Риме! Как писала Александра Смирнова-Россет, Гоголь в Риме «мог глядеть в глаза всему грустному и безотрадному и не испытывать тоски и томления», а сам писатель признавался, что «если есть где на свете место, где страдания, горе, утраты и собственное бессилие могут позабыться, то это разве в одном только Риме». Город-рай, город-небо и жизнь на улице с символическим названием Счастье сделали писателя более стойким, просветленным и способным на литературный подвиг, который он совершил, создав «Мертвые души». Вот почему, он так не хотел уезжать из Рима, ни в Европу, ни в Россию, не желал «оставить на один месяц Рим и мои ясные, мои чистые небеса, мою красавицу, мою ненаглядную землю». (И писатель оказался прав, когда приехав в конце сентября 1839 г. в Москву вновь ощутил в самом себе «терзания адские, невыносимые» и уверял близких, что он не посмотрит «ни на какие препятствия, ни на время, и через полтора или два месяца я на дороге в Рим»).
При этом сам писатель следующим образом в письме к историку М.П. Погодину объяснил тот парадокс, что и под небесами Рима, вдали от Родины, он полностью поглощен Россией: «Я живу около года в чужой земле, вижу прекрасные небеса, мир, богатый искусствами и человеком. Но разве перо мое принялось описывать предметы, могущие поразить всякого? Ни одной строки не мог я посвятить чуждому. Непреодолимою цепью прикован я к своему, и наш бедный, неяркий мир наш, наши курные избы, обнаженные пространства предпочел я лучшим небесам, приветливее глядевшим на меня. И я ли после этого могу не любить своей Отчизны?».
Рим вообще издавна называли speculum mundi — «зеркалом мира», в которое смотрелись разные народы и видели в его тумане собственное лицо, свое предназначение и пердписанный путь. В Вечном городе рождалось много произведений иностранцев, которые четче и яснее видели оттуда очертания своих родных земель, и Гоголь доказал это уникальное свойство города на Тибре как никто другой. Ведь какое произведение вообще можно назвать более русским, чем «Мертвые души»? А родилось то оно именно в Риме.
Отметим, что в Риме еще в первый приезд Гоголя угнетали две вещи: осознание гибели Пушкина, о которой он узнал, находясь в Париже, и постоянное безденежье, которое подтолкнуло Гоголя просить Жуковского обратиться за помощью к императору Николаю I с очень показательными словами, показывающими, как жили в Риме русские художники: «Я должен продолжить мною начатый большой труд, который писать взял с меня слово Пушкин… а между тем я начинаю верить… что писатели в наше время могут умирать с голоду… Будь я живописец, хоть даже плохой, я был бы обеспечен. Здесь в Риме около пятнадцати человек наших художников, из которых иные рисуют хуже моего: они все получают по три тысячи в год. Поди я в актеры — я был бы обеспечен: актеры получают по 10 000 и больше, а вы сами знаете, что я не был бы плохой актер. Но я писатель — и потому должен умереть с голоду». Николай I услышал призыв Гоголя и выделил ему 500 червонных (4860 рублей) «во внимание к крайне стесненному положению находящегося в Риме русского сочинителя», чем обеспечил ему более стабильное положение на 1—1,5 года.
Тем не менее, Гоголь продолжал жить в Риме очень и очень скромно, когда он занимал две небольших комнаты в доме № 126 по Виа Феличе, где в 1901 г. усилиями русской колонии была установлена мемориальная доска. Гоголь платил за жилье 20—30 франков в месяц и ему изредка и совсем не аккуратно прислуживала служанка сеньора Челли Нанна. В полуподвальном помещении дома, где жил писатель, находилось стойло для ослов, нередко мешавших ему своими криками. Литературный критик П.В. Анненков, живший рядом с Гоголем, вспоминал, что обстановку его комнаты составляли простая кровать, большой стол, соломенный диван, книжный шкаф, «письменное бюро в рост Гоголя, обыкновенно писавшего на нем свои произведения стоя», стулья, мозаичный пол и… «ни малейшего украшения».
Конечно, помогало Гоголю то, что в Риме в те годы не только время от времени появлялись путешествующие россияне, с которыми он мог встречаться и общаться, но там постоянно жили многие соотечественники Гоголя, прежде всего, русские художники, отправленные в Рим Императорской Академией художеств. С некоторыми из них, особенно с А.А. Ивановым, Ф.А. Моллером и Ф.И. Иорданом, ставшим потом ректором той самой Академии художеств, Гоголь сблизился особенно тесно. Иордан отмечал по этому поводу, что «в Риме у нас образовался свой особый кружок, совершенно отдельный от прочих русских художников… Мы все собирались всякий вечер на квартире у Гоголя…обыкновенно пили русский хороший чай и оставались тут часов до девяти… В первые годы Гоголь всех оживлял и занимал».
Гоголь и Волконская
Совершенно естественно, что с первых дней пребывания в Риме, а именно с апреля 1837 г., Гоголь оказался в орбите салонов Зинаиды Волконской, выступавшей в роли метрессы и «доброго гения» Русского Рима. Княгиня разрешала писателю приезжать к ней, когда он только пожелает и насколько пожелает. Гоголь часто посещал и апартаменты княгини в палаццо Поли, и ее виллу, где он участвовал в приемах и литературных вечерах, постоянно общался с княгиней и ее гражданским мужем Миниато Риччи, занимался с ними литературными делами, в частности, обсуждал вопросы переводов русских писателей и поэтов на итальянский язык. Как отмечала княгиня в своем письме еще от 8 июня 1837 г., «Гоголь здесь и часто приходит на мою виллу, он читает в моей библиотеке…», а через несколько месяцев она сообщала: «Гоголь вернулся, пронизанный чувствами к Риму»; «Гоголь здесь и всякий день более воплощается с Римом». Известно, что Гоголь читал для посетителей палаццо Поли и виллы Волконской главы «Мертвых душ» и своего бессмертного «Ревизора», вызывая этим огромный интерес к своему творчеству.
Волконская, оказавшая сильное воздействие на восприятие Гоголем Рима, его достопримечательностей, жителей и богатой истории, очень ценила писателя и даже устраивала в его честь, как это случилось 30 января 1839 г., особые праздники. В тот день Степан Шевырев прочитал посвященное Гоголю стихотворение и подарил ему рисунок с изображением театральной маски. И именно с этой маской в руках изобразил Гоголя на памятнике писателю на вилле Боргезе, установленном в 2003 г., Зураб Церетели.
Около 1845 г.
Посещая салоны Волконской, Гоголь заводил знакомства со многими итальянскими и европейскими деятелями искусств. Однажды он впервые услышал там римского народного поэта Джузеппе Джоакино Белли, который исполнял острые памфлеты на злобу дня, делая своими героями обычных людей и передавая дух самого старого района Рима Трастевере. Гоголь предпринял немало усилий, чтобы имя этого поэта стало известно в Европе, выступив в качестве пропагандиста итальянской поэзии.
Волконская, вводя Гоголя в круг ее римских знакомств, открывала перед ним перспективы общения с самыми разными людьми от кардинала Джузеппе Меццофанти и востоковеда Микеланджело Ланчи до многочисленных членов Института археологической корреспонденции, активным участником деятельности которого княгиня стала еще в 1836 г. Она всегда интересовалась археологией, собирая свою коллекцию античных гемм и украшений. Известно, что Гоголь с апреля 1837 г. участвовал в собраниях этого Института, проявляя свой постоянный интерес к древней истории.
При этом следует сделать очень важное замечание, что Гоголь начал изучать итальянский язык еще до приезда в Рим и очень преуспел в этом, обучаясь языку ежедневно, постоянно смешиваясь с толпой, участвуя в римских карнавалах, беседуя с посетителями кафе и тратторий, а также с представителями итальянских искусств — от художников и архитекторов до музыкантов и писателей. Дело дошло до того, что Гоголь давал уроки итальянского своим друзьям, переводил итальянские тексты и пытался сам писать на этом языке, чем отличался от многих россиян, не спешивших изучать в Риме местный язык. И, конечно, знание итальянского раскрывало Гоголю широкие перспективы познания и самой Италии, и ее жителей, и ее истории, и ее культуры.
П.В. Анненков оставил такую картинку гоголевского поведения на вилле княгини Волконской, где писатель особенно любил грот, где он, находясь подолгу, обдумывал и сочинял «Мертвые души»: «На даче княгини З. Волконской, упиравшейся в старый римский водопровод, который служил ей террасой, он ложился спиной на аркаду богатых, как называл древних римлян, и по полусуткам смотрел в голубое небо, на мертвую и великолепную римскую Кампанью». Сам Гоголь так описал подобный досуг на вилле в письме к матери: «Я пишу к тебе письмо, сидя в гроте на вилле у княгини Зинаиды Волконской, и в эту минуту грянул прекрасный, проливной, летний, роскошный дождь, на жизнь и на радость розам и всему пестреющему около меня прозябению. Освежительный холодок проник в мои члены, утомленные утреннею, немного душною прогулкою…»
Сохранилось уникальные рисунки, сделанные В.А. Жуковским во время его совместных длительных прогулок по Риму с Гоголем, на которых можно видеть последнего и в городе, и запечатленным на крыльце виллы Волконской на фоне возвышающейся вдали базилики Сан-Джованни-ин-Латерано (это было сделано 3 и 9 февраля 1839 г.). «Мы с Жуковским на лету рисовали виды Рима,— сообщал писатель об этих художественных экспериментах своему другу Данилевскому, указав на явное превосходство в умении рисовать поэта: — Жуковский в одну минуту набрасывал по десятку рисунков, чрезвычайно верно и хорошо».
Гоголь очень подружился с княгиней Волконской, и в ее отсутствие в Риме он чувствовал себя одиноко, в чем сам признавался в письме к матери в 1838 г.: «Кн. Зинаида Волконская, к которой я всегда питал дружбу и уважение и которая услаждала мое время пребывания в Риме, уехала, и у меня теперь в городе немного таких знакомых, с которыми любила беседовать моя душа».
В апреле-мае 1839 г. на вилле Волконской долго болел и умер 22 х летний друг Гоголя, историк Иосиф Михайлович Виельгорский, который был совоспитанником и адъютантом великого князя Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Гоголь, чтобы помочь медленно умиравшему другу, переехал на виллу и не отходил от него ни днем, ни ночью. Волконская пыталась обратить умирающего Виельгорского в католичество, и это вызвало острые трения между ней и Гоголем, который вынужден был удалиться и впоследствии посвятил этой истории неоконченный рассказ «Ночи на вилле». (Эта история послужила некоторому охлаждению отношений Гоголя с Волконской, хотя он продолжал участвовать в салонах княгини вплоть до примерно 1845 г., когда они начали сходить на нет).
Следует подчеркнуть, что верность православию была одной из неизменных черт писателя, несмотря на то, что он жил в Риме, находился в контакте с католическими священниками, пытавшимися повлиять на его духовный настрой, со многими перешедшими в католичество россиянами и испытывал к католичеству уважение и художественное любопытство, как ценитель архитектуры и изобразительного искусства.
А что касается любимых мест Гоголя в Риме, то в их числе следует назвать:
— Римский Форум и Колизей, которые входили в маршруты постоянных прогулок Гоголя по Риму в одиночестве или вместе с гостями из России, перед которыми он выступал в качестве искусного экскурсовода;
— Собор Святого Петра в Ватикане, куда писатель часто заходил, восхищаясь его красотой, масштабом и величием. Писатель испытывал особую любовь к мастерам итальянского искусства, прежде всего, к Рафаэлю и Микеланджело;
— Испанская площадь, как центр притяжения всех жителей и гостей Рима;
— В Риме Гоголь наслаждался садами и парками, в том числе в открытых для посещений частных владениях, которые он посещал почти ежедневно: вилла Боргезе, вилла Медичи, вилла Альбани, вилла Торлониа, сады Саллюстия и т.д.
— Кафе «Греко» (Antico Caffe Greco) на улице Кондотти, 86 — одно из самых древних кафе Рима, существующее с 1760 г., постоянное место встреч русских писателей и художников, в котором бывали также Гете, Байрон, Стендаль, Мицкевич, Теккерей. И это кафе до сих пор хранит приметы посещений его великим Гоголем;
— Кофейня Del Вuon Gusto («Хороший вкус») на углу Испанской площади и Via Carozze, а также популярные траттории Lepre («Заяц») на улице Кондотти, 11 и Falkon («Сокол») неподалеку от Пантеона, где Гоголь, отличавшийся изрядным аппетитом, любил попробовать римские блюда и десерты;
— Гоголь был частым гостем в мастерских итальянских художников и скульпторов, часть из которых располагалась в районе монастыря Святого Исидора. И, конечно, он постоянно общался с русскими художниками, набиравшимися опыта в Вечном городе;
— Писатель нередко посещал римские театры, он любил музыку, и особенно оперу;
— Пригороды Рима, в том числе местечко Тиволи, которые воодушевляли Гоголя своей еще не тронутой природой. Однажды во время поездки по красивым окрестностям Альбано, в городке Аричча, Гоголь, остановившись в самом обычном трактире, вдруг ощутил творческий порыв и под нескончаемый шум и грохот бильярдных шаров «забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места».
Художник А.Д. Жамет. 1855 г
Гоголю выпало несколько раз уезжать из Рима и страстно возвращаться в него, однако, выехав в начале лета 1840 г. из России в Вечный город, писатель сильно заболел в Вене и чуть не умер, пережив и «желудочное расстройство», и «болезненную тоску, которой нет описания». И именно в это время в Гоголе что-то «сломалось», в нем стало вызревать отчуждение от Рима, победившее в итоге в конце 40 х гг. Еще летом 1840 г. писатель признавался в письме к Погодину, что «ни Рим, ни небо, ни то, что так бы причаровало меня, ничто не имеет теперь на меня влияния. Я их не вижу и не чувствую». Тем не менее, 25 сентября 1840 г. Гоголь вновь прибыл в город на Тибре и прожил там более года — до августа 1841 г., работая над «Мертвыми душами», увидевшими свет летом 1842 г.
Гоголь вновь приехал в Рим 4 октября 1842 г. (оставшись там до начала мая 1843 г.) вместе с поэтом Н.М. Языковым, который поселился на втором этаже того же дома на улице Феличе. В писателе, слабевшем тогда здоровьем, начинают развиваться в этот период ностальгические чувства по отношению к России и слабеет очарование Римом. Так, в феврале 1843 г. Гоголь признавался: «Для меня все, до последних мелочей, что ни делается на Руси, теперь стало необыкновенно дорого, близко. Малина и попы интересней всяких колизеев». И добавлял: «Сказать правду, для меня давно уже мертво все, что окружает меня здесь, и глаза мои всего чаще смотрят только в Россию и нет меры любви к ней».
Такова оказалась гоголевская метаморфоза: римский солнечный рай стала затмевать холодная и не обустроенная Россия. В январе 1843 г. в Рим по приглашению писателя приехала из Флоренции та самая Александра Осиповна Смирнова-Россет, которая была фрейлиной двух императриц, дружила с Пушкиным, познакомилась с Гоголем еще в Царском Селе, ввела его в круг друзей Пушкина, а потом принимала его в Париже, Ницце и Баден-Бадене. Писатель признавался, что «с ней мы были издавна как брат и сестра, и без нее, Бог весть, был ли бы я в силах перенести многое трудное в моей жизни…»
Художник А.О. Кипренский. 1830-е гг
Именно Смирновой-Россет Гоголь читал летом 1837 г. в Баден-Бадене отрывки из еще не дописанных «Мертвых душ». Как вспоминала подруга писателя, «Гоголь вынул из кармана тетрадку в четверку и начал первую главу своей бессмертной поэмы. Мы были в восторге… Никто так не читал, как Гоголь, и свои, и чужие произведения. Мы смеялись неумолкаемо. В нем был залог великого актера».
Для нас важно отметить, что кроме Зинаиды Волконской в Риме появлялись и другие знаменитые женщины-аристократки, испытывавшие трепет к искусству и готовые помогать русским писателям и художникам, как это было с Гоголем. Смирнова сняла апартаменты в палаццо Валентини, неподалеку от Форума Траяна, куда на протяжении нескольких недель ежедневно приходил Гоголь, общавшийся с хозяйкой и ее друзьями, готовивший им макароны, показывавший им красоты Рима и его окрестностей. По заверениям Смирновой, «никто не знал лучше Рима… Не было итальянского историка или хроникера, которого бы он не прочел…»
Пребывание в Вечном городе Смирновой скрасило будни Гоголя зимой 1843 г., а в мае того же года он уехал в Германию и начал буквально метаться по Европе, проводя время то в Ницце, то в Баден-Бадене, то во Франкфурте в доме у Жуковского. Он вновь несколько раз болел и возвратился в Рим только 24 октября 1845 г., снова оставшись в Вечном городе до мая следующего года. Писатель поселился на этот раз по другому адресу: Via della Croce, 81, на четвертом этаже сохранившегося поныне здания, известного как палаццо Понятовского. Любопытно, что с 17 по 21 декабря 1845 г. в Риме инкогнито, хотя все об этом хорошо знали, находился император Николай I, встретившийся с Папой Григорием XVI. Гоголь видел императора несколько раз мельком, «любовался им издали» — «лицо его было прекрасно», но так и не осмелился к нему подойти. Как объяснил сам писатель, «я не представлялся к нему потому, что стало стыдно и совестно, не сделавши почти ничего еще доброго и достойного благоволения, напоминать о своем существовании…»
Во время этого пребывания в Риме Гоголь опять нашел того, с кем ему удалось сблизиться и с кем он побеждал свое одиночество — с графиней С.П. Апраксиной, также помогавшей писателю. Смирнова-Россет по этому поводу сообщала: «До меня дошло, что Гоголь поправился, бывает всякий день у Софьи Петровны Апраксиной, которая его очень любит, чему я очень рада. Ему всегда надо пригреться где-нибудь, тогда он и здоровее, и крепче духом. Совершенное одиночество для него пагубно».
Гоголь в поисках рая и новый «Русский Рим»
Следует особо подчеркнуть, что Рим был так благотворен для Н.В. Гоголя во многом потому, что его почти постоянно окружали друзья и знакомые, причем некоторые из них нередко жили рядом с Гоголем или даже в одном с ним доме. Перечислим имена самых близких товарищей и знакомых писателя, которые приезжали в Рим и коротали с ним время, кто несколько дней, кто несколько месяцев, и, конечно, так или иначе принимали участие в салонах Зинаиды Волконской.
Художник И.Ф. Реймерс,. 1837 г/
1837—1839 гг.: кандидат камеральных наук И.Ф. Золотарев, который провел вместе с Гоголем в Риме несколько месяцев; историк, мыслитель, однокашник и друг Гоголя А.С. Данилевский; А.Н. Карамзин, сын знаменитого историка; ученица Гоголя М.П. Балабина; литератор, критик, профессор Московского университета С.П. Шевырев; историк и археолог А.Д. Чертков; поэт и ближайший друг Гоголя В.А. Жуковский; историк и писатель М.П. Погодин; граф И.М. Виельгорский.
1840—1841 гг.: литератор и друг писателя В.А. Панов, с которым Гоголь приезжает в Рим и который помогает переписывать начисто «Мертвые души»; студент-филолог, будущий академик Ф.И. Буслаев; писатель и критик П.В. Анненков, который останавливается у Гоголя на два с лишним месяца и также помогает ему переписывать «Мертвые души»; журналист и критик Н.И. Надеждин.
1842—1843 гг.: поэт Н.М. Языков прибывает в Рим вместе с Гоголем и поселяется в том же доме на улице Феличе на много месяцев, также как и профессор Петербургского университета Ф.В. Чижов; подруга писателя А.О. Смирнова-Россет, о которой упоминалось выше; великая княгиня Мария Павловна и ее супруг Максимилиан Лейхтенбергский;
1845—1847 гг.: писательница Е.П. Ростопчина; графиня С.П. Апраксина; литератор А.С. Стурдза; вице-президент Академии художеств Ф.П. Толстой.
Этот далеко не полный список, куда не вошли многие русские художники, жившие подолгу в Риме, с кем постоянно общался Гоголь, впечатляет именно потому, что он показывает насколько много русских интеллигентов и деятелей искусств приезжали в «римскую мекку» в те годы и насколько тесными были русско-итальянские культурные связи. При этом следует иметь в виду, что кроме салонов Зинаиды Волконской «центрами притяжения» русских приезжих в Риме являлись в то или иное время места проживания многих российских аристократов, например, князей Репниных, Толстых, Апраксиных, Виельгорских, Олсуфьевых, а также членов императорского дома, то и дело навещавших Рим. И, конечно, огромную роль в жизни Русского Рима играла дипломатическая миссия России при Святом Престоле в Ватикане, сотрудники которой постоянно проводили встречи и вечера, в частности, в палаццо Памфили (на пьяцца Навона), палаццо Пропаганда Фиде (на пьяцца ди Спанья) или в палаццо Джустиниани.
Художник А.Н. Мокрицкий. 1842 г
Особую роль во вхождении Гоголя в круг русской и итальянской творческой интеллигенции Рима сыграл старший секретарь, позднее советник миссии России при Ватикане П.И. Кривцов, проработавший там около 20 лет, с 1826 по 1844 г., и женившийся на княжне Е.Н. Репниной. Он был инициатором многих культурных начинаний и являлся «начальником над русскими художниками в Риме», то есть главой Императорской дирекции русских художников в Риме. (Любопытно, что Гоголь пытался стать конференц-секретарем этой дирекции, чтобы обеспечить свое существование в Риме, но это ему не удалось, несмотря на содействие его влиятельных друзей, в том числе Жуковского). Салоны Кривцовых, имевшие также яркую художественную направленность, часто проходили в палаццо Фальконьери на Виа Джулия, 1 и на вилле Фальконьери во Фраскати на окраине Рима, арендованных Репниными. На них собирались русские деятели искусств, в том числе Гоголь и Жуковский. Важно отметить, что Зинаида Волконская состояла в родстве с Репниными и дружила с четой Кривцовых. Недавно вилла Фальконьери была открыта для посещений публики, что можно расценивать, как важное культурное событие в жизни Рима.
Зима 1845—1846 г. была последней зимой, которую писатель провел в Риме. Уехав из него в мае 1846 г. в Париж, а потом в Германию, Гоголь выбрал местом своей «зимовки» Неаполь, заехав в Рим только на три дня в ноябре 1846 г. А затем, выехав в мае 1847 г. снова в Германию он еще дважды посетил Рим — в мае и октябре этого года, но всего лишь на несколько дней, чтобы вновь проследовать в Неаполь: тяга к Вечному городу уже остыла в душе писателя. Он сам откровенно признавался в этой перемене своему другу Жуковскому: «Во время прежнего пребыванья моего в Риме никогда не тянуло меня в Неаполь; в Рим же я приезжал всякий раз как на родину свою. Но теперь, во время проезда моего через Рим, уже ничто в нем меня не заняло… Я проехал его так, как проезжал дорожную станцию…»
Душевный перелом, случившийся с Гоголем, заключался в том, что, потеряв свой рай в Риме, он стал искать свой рай, свой «душевный монастырь» на Родине, представляя потом ее единым, «огромным монастырем». «Монастырь Ваш — Россия», — так сформулировал эту мысль Гоголь в письме к А.П. Толстому, и до конца своих дней он не останавливал душевных поисков «взыскуемого рая». И нашел ли он его там, за предельной чертой?..
Казалось бы, все приобретенное Гоголем в Риме куда-то улетучилось, и последние годы писателя, мучительные и безрадостные, были лишены солнечного света, покоя и литературного взлета, обретенных в городе на Тибре. Но так только могло показаться. Прежде всего, Рим подарил писателю в итоге творческий взлет, он не только завершил здесь первую часть «Мертвых душ», но и создал много произведений, вошедших в копилку русской литературы: «Шинель», «Театральный разъезд после представления новой комедии», «Ночи на вилле», «Отрывок», комедии «Игроки», «Тяжба», «Лакейская». Кроме того Гоголь переделал в Риме «Тараса Бульбу», «Портрет», «Ревизора», «Женитьбу» и начал писать целый римский роман «Аннунциата», который был вылился постепенно в повесть «Рим» — единственное произведение писателя, действие которого происходит за границей.
Рим все-таки остался в душе писателя именно как обретенный рай, как вечное воспоминание о счастье, пережитое совсем недавно. Гоголь сам признался в этом парадоксальном, на первый взгляд, ощущении покинутого им Рима в письме к своему другу Данилевскому: «Все, что мне нужно было, я забрал и заключил к себе в глубину души моей. Там Рим как святыня, как свидетель чудных явлений, совершившихся надо мною, пребывает вечен». Гоголь далее отметил, что благодаря «римскому опыту», он, «укрепленный и мыслью, и духом», изготовился идти, «покойно, неторопливо, по пути, начертанному свыше…»
Это звучит как завещание человека, познавшего свою судьбу и готового идти по предписанному пути, каким бы он ни был, «взойти на ту лестницу», которая определена небесной силой. («Дайте лестницу», — таковы были одни из самых последних слов, сказанных Гоголем накануне смерти). Он вообще считал, что «незримая рука писала передо мною могущественным жезлом», что «во мне поселился дух пророчества. Властью высшей облечено мое слово». И в мировой истории трудно найти такой же пример слияния великого писателя одной культуры и страны с, казалось бы, чужим, иноземным городом, ставшим для него обретенным раем. Рим и Гоголь — это вечная тема соединения разных культур в единый сплав творчества и жизни, это пример той самой всемирной отзывчивости, которая свойственна гениям.
Пушкин, которому посвятил когда-то свои слова о всемирной отзывчивости Достоевский, так и не смог, в отличие от Гоголя, побывать в городе на Тибре. И вот парадокс истории: оба гения русской литературы мечтали умереть в Вечном городе. Гоголь прямо утверждал: «Нет лучшей участи, как умереть в Риме», а Пушкин выразил почти то же самое своими стихами:
Но если гневный Бог досель неуловим,
И век мне не видать тебя, великий Рим, —
Последнею мольбой смягчая рок ужасный,
Приближьте хоть мой гроб к Италии прекрасной!
Однако умереть Пушкину и Гоголю было суждено в русских столицах… и встретиться потом в виде памятников, расположенных по соседству на аллее Viale Degli Artisti виллы Боргезе. Гении лишь через много лет после смерти смогли вернуться в Вечный город, хотя и в «застывшем», «окаменевшем» виде…
Уникальный опыт Гоголя, сумевшего не только познать и понять сам Рим, но и увидеть из него «громадину России», долгие годы притягивал к себе внимание писателей и поэтов, пытавшихся хотя бы частично прочувствовать исполненное автором «Мертвых душ». Вот и мне не раз хотелось приблизиться к гоголевскому пониманию Вечного города, еще и еще раз открывая его заветные уголки и достопримечательности и снова прибегая к собственному поэтическому отражению увиденного:
К Гоголю в Рим
Я Рим хочу постичь как Гоголь,
Уйдя в его глубины с головой,
Чтобы приблизиться немного
К заветной истине простой,
Что Рим не только город вечный,
Что он — искомый город-рай,
Идиллией своею безупречной
Влекущий в итальянский край.
Сплелись в нём так непостижимо
История с природой неземной,
Что нет на свете гармоничней Рима.
А есть лишь Рим — один такой!
И Гоголь Риму неспроста молился
В Париже, Питере, Москве…
И с ним на небесах он слился
В бездонной звёздной синеве.
Гоголь нашел в Вечном городе рай потому, что он искал его неистово и упорно, понимая, что без него ему не достичь поставленные перед самим собой высокие духовные и творческие цели. Однако и этот рай оказался «не вечным», а только земным, лишь улыбнувшись приметами Счастья автору «Ревизора» и «Шинели», вернувшемуся под холодное, но родное небо русских просторов:
Гоголь в Риме
«Ты здесь нашёл искомый рай
На улице с названьем Счастье,
Отсюда видя русский край
Сквозь призму дальнего участья».
Громада Родины всегда видней
Издалека и с берега чужого,
Где часто и весомей, и честней
Рождается родное Слово.
У «Мёртвых душ» есть адрес свой,
Укрывшийся на улице Систина,
Где Гоголь зазвучал иной струной,
Создав бессмертные картины.
«Ты рай нашёл, но вскоре потерял,
Сказав своё навечно Слово,
И рай потом на Родине искал,
Но не нашёл его, пожалуй, снова.
Ты думал, что монастырём была
Вся Родина твоя большая,
Но помешали всякие кривые зеркала
В ней разглядеть приметы рая.
Ты монастырь обрёл души своей
Лишь в небесах, где стихли страсти…
И грустно так на улице твоей
С названием непонятным Счастье».
Рим был и останется городом Гоголя, городом, где о нем напоминает многие и многие приметы, открытые любому ищущему сердцу, знакомому с деталями гоголевской эпопеи в Риме. И мне еще и еще раз выпадала благодать погружения в атмосферу присутствия русского гения на улицах и площадях Вечного города:
Рядом с Гоголем
На той же улице Систина -
С названьем старым Феличе -
Я гоголевские вижу картины,
Хотя года вокруг уже не те,
Не та эпоха и не те затеи,
Но Гоголь будто бы опять идёт
В кафе Эль Греко или к Колизею.
И я его увижу здесь, вот-вот.
Походка быстрая, одет опрятно,
И острый взгляд, и бодрый нрав.
Жаль, время не вернуть обратно,
Не дописать сожженных глав.
То, что ушло, ушло уже навечно,
Пусть даже память ноет и болит.
Но вижу я, как быстро и беспечно
Веселый Гоголь на обед спешит...
В ноябре 2017 г. в Риме произошло важное и многозначительное событие: несмотря ни на какие санкции и попытки разъединить наши народы в том же самом палаццо Поли у фонтана Треви, где на русских салонах Зинаиды Волконской 180 лет назад читал свои произведения Гоголь, состоялся культурный фестиваль «Русский Рим», восстановивший традицию культурного присутствия российской культуры на берегах Тибра. Подробный рассказ о том, к чему приведет эта инициатива (она и сегодня, несмотря ни на какие трудности продолжает жить!), еще впереди, а мне хотелось бы завершить свое краткое эссе стихотворением, в котором вновь ощущается тот самый родной дым нашего Отечества, который повеял все-таки вновь над творением великого Бернини:
На фестивале "Русский Рим"
Осенний Рим, палаццо Поли,
Фонтан Треви и Данте зал!
Здесь речь идёт о русской доле,
Не знающей пределов и начал,
О возрождении былых традиций
Салонов, восхищавших Рим
И собиравших много лет в столице
Отечества российский дым,
Украшенный цветеньями Европы
На Тибра томных берегах.
Сплетались так узлы и стропы
Движения культурного в веках.
А правила здесь попросту когда-то
"Царица муз и красоты" навек,
Сближая Гоголя и Риччи Мариато,
Брюллова, Белли... - сотни человек!
Ее запомнили певицей, меценатом,
Княгиней доброй и почти святой...
Сегодня же она совсем не виновата,
Что стали забывать ее порой.
Но час настал. Опять салоны
Волконской возвратились в Рим,
И рухнули забвения препоны,
Опять Отечества повеял дым.
Узлами памяти нас вновь связала
Времён нерасторжимых нить,
Свершая прежние начала...
И значит, надо дальше жить!
Вот над фонтаном гордо реет чайка,
Заглядывая мельком в окна к нам.
Неужто это дух явился без утайки
Той, что служила честно небесам?

Вехи судьбы Александра Блока
8 ноября 2020 года мы отмечаем 140-летие со дня рождения Александра Блока. Именно ему посвящает свою серию очерков историк, поэт и путешественник Сергей Дмитриев. Вместе с ним мы узнаем о путешествиях поэта, его жизни и творчестве.
Петербургские годы Блока
 140-летие со дня рождения Александра Блока, исполняющееся 28 ноября 2020 г., призывает нас еще раз обратиться к фигуре этого удивительного поэта, без сомнения, входящего в первый ряд мастеров русской рифмы. И здесь следует вспомнить о противостоянии и соперничестве Золотого и Серебряного веков русской поэзии, которые каждый подарили России целый сонм выдающихся поэтов. Среди них выделяются две тройки: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов и А. А. Блок, С.А. Есенин, Н. С. Гумилев. И, пожалуй, именно в таком порядке ранжировались поэты в общественном мнении их современников. Если Пушкин признавался первым поэтом России примерно с середины 1820-х гг., то Блок поднялся на этот пьедестал к 1910-м гг., после его «Стихов о Прекрасной Даме», «Снежной маски» и «Стихов о России».
140-летие со дня рождения Александра Блока, исполняющееся 28 ноября 2020 г., призывает нас еще раз обратиться к фигуре этого удивительного поэта, без сомнения, входящего в первый ряд мастеров русской рифмы. И здесь следует вспомнить о противостоянии и соперничестве Золотого и Серебряного веков русской поэзии, которые каждый подарили России целый сонм выдающихся поэтов. Среди них выделяются две тройки: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.С. Грибоедов и А. А. Блок, С.А. Есенин, Н. С. Гумилев. И, пожалуй, именно в таком порядке ранжировались поэты в общественном мнении их современников. Если Пушкин признавался первым поэтом России примерно с середины 1820-х гг., то Блок поднялся на этот пьедестал к 1910-м гг., после его «Стихов о Прекрасной Даме», «Снежной маски» и «Стихов о России».
Знаменательно, что если Пушкин был москвичом, демонстрируя превосходство в то время именно города на семи холмах, то Блок был петербуржцем, подтверждая, что столицей Серебряного века был именно город на Неве. Какая-то поэтическая аура витала над северной столицей, если только за 20 лет в ней родились такие гранды поэзии, как А.А. Блок (1880), К.И. Чуковский (1882), С.М. Городецкий (1884), Н.С. Гумилев (1886), Игорь Северянин (1887), В.А. Рождественский (1895), П.Г. Антокольский (1896), И.С. Тихонов (1896), В.В. Набоков (1899). И Блок в этом ряду действительно был первым, если не считать «более раннего» по году рождения Д.С. Мережковского (1865).
Александр Блок, матерью которого была Александра Андреевна, урожденная Бекетова, дочь ректора Санкт-Петербургского университета, а отцом – юрист, профессор Александр Юрьевич Блок, родился и рос в интеллигентской городской среде. И хотя его родители разошлись, и с 9 лет поэт жил с отчимом, гвардейским офицером Ф.Ф. Кублицким-Пиоттухом, ему суждено было вобрать в себя всё то лучшее, что дарила атмосфера питерской столичной жизни с приметами образованности, культуры и даже элитарности.
Символично, что Блок родился в ректорском доме Петербургского университета, и свою духовную родословную он возводил именно к своему деду, ботанику мирового уровня. «Ведь я с молоком матери впитал в себя дух русского «гуманизма», - писал он в автобиографии. – От дедов унаследовали любовь к литературе и незапятнанное понятие о ее высоком значении их дочери – моя мать и ее две сестры». Мать поэта открыла перед сыном мир русской поэзии, первая оценила его поэтические опыты и знакомила с ними петербургских литераторов.
После нового замужества матери Блок жил с ней и отчимом в офицерском корпусе гренадерских казарм на Петербургской стороне, на набережной Большой Невки, откуда поэт ходил сначала во Введенскую гимназию, а потом в университет. Это был окраинный Петербург, не такой парадный, а более будничный, и он нравился поэту своей простотой.

Именно здесь в 1897 г. родилось первое известное нам лирическое стихотворение Блока «Ночь на землю сошла…» И не случайно, в первом же цикле поэта «Ante Lucem» (1898-1900) вовсю зазвучала петербургская струна блоковской поэзии: «Помнишь ли город тревожный, синюю дымку вдали?» И впоследствии эта струна стала звучать у поэта еще звонче, напряженнее и оригинальнее других:
Одна мне осталась надежда:
Смотреться в колодезь двора.
Светает. Белеет одежда
В рассеянном свете утра…
Голодная кошка прижалась
У желоба утренних крыш.
Заплакать - одно мне осталось,
И слушать, как мирно ты спишь.
Читая эти стихи, так и видишь не очень-то радостные картины города белых ночей и балтийских туманов, города помпезного, но сумрачного, который рождал и такие, известные всем нам строки обреченности и бессмысленности бытия:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь — начнешь опять сначала
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Блоку выпало с сентября 1906 г., когда он поселился отдельно со своей женой Любовью Дмитриевной, поменять в Петербурге несколько квартир на Лахтинской, Галерной, Малой Монетной и, наконец, на Офицерской (ныне Декабристов, д.57) улице, последнем месте своего земного пристанища. И все эти годы поэт постоянно погружался в ауру северной столицы, он исходил пешком весь Петербург вплоть до дальних пригородов и окрестностей, оставляя в своих стихах реальные приметы конкретных мест, как и в своей известном стихотворении «Незнакомка», родившемся в Озерках. Блок прочувствовал этот «город мой непостижимый» до самых основ, и, несмотря на флёр и очарование Прекрасной Дамы, облик северной столицы получился в его стихах несчастливым и надрывным, как и сама эпоха, которую суждено было ему пережить. Блок все это понимал и просил «простить его угрюмство»: «разве это / Сокрытый двигатель его? / Он весь – дитя добра и света, / Он весь – свободы торжество!».
В музыке Петербурга постепенно, особенно начиная с раскатов Первой российской революции, нарастало невиданное напряжение, и в поэте крепло предчувствие грядущих потрясений и крушения старого мира, который Блок называл «страшным миром». В своей поэме «Возмездие» он вот так предвосхитил неизбежные потрясения:
Двадцатый век… Еще бездомней,
Еще страшнее жизни мгла
(Ещё чернее и огромней
Тень Люциферова крыла)…
И черная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные рубежи…
Блок оказался прав в своих предчувствиях, но, слава Богу, что в его жизни были не только окрашенные тревогами и потрясениями петербургские страницы, завершившиеся скоропостижной смертью поэта в сорокалетнем возрасте 7 августа 1921 г., но и более счастливые моменты, связанные с Шахматово, Москвой и путешествиями…
Шахматово – пенаты великого поэта
 Блок как поэт без сомнения не состоялся бы, если бы не было в его судьбе Шахматова – милой подмосковной усадьбы в 80 километрах от столицы (Солнечногорский район Московской области). У поэта, как у вольной птицы, было два крыла: «петербургское и шахматовское», которые дополняли друг друга. Если первое крыло вознесло поэта на вершину символизма и городской лирики, то второе раскрыло в нем высоты проникновения в чертоги русской природы и деревенской жизни. Блоку выпало в жизни очень мало путешествовать по России, и его почти ежегодные летние каникулы и посещения Шахматова с 1881 по 1916 г. – более 35 лет! – заменили ему открытие множества русских мест и знакомство с бытом народа.
Блок как поэт без сомнения не состоялся бы, если бы не было в его судьбе Шахматова – милой подмосковной усадьбы в 80 километрах от столицы (Солнечногорский район Московской области). У поэта, как у вольной птицы, было два крыла: «петербургское и шахматовское», которые дополняли друг друга. Если первое крыло вознесло поэта на вершину символизма и городской лирики, то второе раскрыло в нем высоты проникновения в чертоги русской природы и деревенской жизни. Блоку выпало в жизни очень мало путешествовать по России, и его почти ежегодные летние каникулы и посещения Шахматова с 1881 по 1916 г. – более 35 лет! – заменили ему открытие множества русских мест и знакомство с бытом народа.
Именно Шахматову, где поэт написал более 300 стихотворений, Блок обязан необъятной любви к России:

О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной —
В твоей тоске, о, Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной —
Я не боюсь.
Дед поэта Андрей Николаевич Бекетов купил усадьбу, затерявшуюся среди полей и лесов Подмосковья в 1874 г., в том числе и потому, что неподалеку в усадьбе Боблове уже обосновался его друг – Дмитрий Иванович Менделеев. И Блок первый раз появился в Шахматове уже в шестимесячном возрасте. Эти времена он такими строками описывал в своей поэме «Возмездие»:
И старики, не прозревая
Грядущих бедствий…
За грош купили угол рая
Неподалеку от Москвы.
Огромный тополь серебристый
Склонял над домом свой шатер,
Стеной шиповника душистой
Встречал въезжающего двор.
А еще была неподражаемая шахматовская сирень, обилие трав и цветов, которые Александр постигал, бродя по окрестным лугам и лесам со своим дедом. И вскоре кругом не осталось, как писал Блок, «места, где бы я не прошел без ошибки ночью или с закрытыми глазами». «Многоверстная, синяя русская даль», «Русь настоящая» открывалась перед поэтом всякий раз, когда он поднимался на высокий шахматовский холм, вглядывался в бескрайние просторы и признавался себе в пылких чувствах:
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,
Как слезы первые любви!
И не случайно именно в Шахматове рождались и цикл «На поле Куликовом», и стихотворения «На железной дороге», «Осенняя воля», «Я и молод и свеж и влюблен», и лучший сборник любовной лирики поэта «Стихи о Прекрасной Даме», раскрывающий еще одну ипостась шахматовских дней, подаривших Блоку… любовь.
Соседями семьи поэта были Менделеевы, и с тех пор как Саша сыграл в домашнем спектакле с Любой, дочерью великого химика, Гамлета и Офелию, ему почудилось, что именно она – его Прекрасная Дама и Незнакомка, которой можно поклоняться всю жизнь. Причем первый раз букет фиалок двухлетней девочке будущий поэт подарил, когда ему было всего лишь три года. Добиваться своей суженой Блоку пришлось долго, и рожденный в итоге брачный союз получился одним из самых удивительных в ряду супружеских пар того времени: причудливый, почти платонический, он сопровождался и изменами, доходившими до вызовов Блока на дуэль Андреем Белым, и рождением Любовью мало прожившего мальчика от актера Константина Давидовского, и постоянными духовными метаниями супругов, и поздними проявлениями ими верности и взаимопомощи в страшные революционные годы. В этом союзе соединились безмерный романтизм поэта и приземленность его супруги, здравомыслящей женщины, часто не понимавшей причуды своего мужа.

в любительском спектакле
Ухаживая за своей невестой, Блок часто приезжал в Боблово на своем любимом коне Мальчике и привозил своей Прекрасной Даме, жившей за «зубчатым лесом», новые и новые стихи. И венчание молодых совершилось летом 1903 г. в селе Тараканово, на полпути между Шахматово и Боблово, в милом храме Михаила Архангела, том самом, где «девушка пела в церковном хоре», в храме, который поэт вспоминал потом еще не раз:
Телеги… катятся
В пыли… и видная едва
Белеет церковь над рекою.
За ней – опять леса, поля…
И всей весенней красотою
Сияет русская земля.
Время, проведенное Блоком в Шахматове, было самым счастливым в его жизни, он часто называл усадьбу местом, где хотел бы жить всегда. И не случайно в 1910 г. он затеял перестройку главного дома усадьбы и сам руководил этим строительством. Однако грянувшие вскоре Первая мировая война и революция оборвали шахматовское очарование в судьбе Блока, питавшее его долгие годы энергией и токами родной земли. Последний раз поэту суждено было побывать там в июле 1916 г. И очень символично, что усадьба, разделив судьбу многих «дворянских гнезд», была сожжена крестьянами именно в 1921 году – году смерти поэта. И не подорвало ли это еще больше силы слабевшего и болевшего в те дни поэта, когда он узнал о гибели родных пенат, о пепелище, засыпанном бумагами «со следами человеческих копыт с подковами», о разворовывании обстановки, утвари, книг и о разгроме усадебного парка теми, кого «полагалось» любить и перед кем преклоняться. «Ничего сейчас от этих родных мест, где я провел лучшие времена жизни, не осталось, – писал Блок тогда Леониду Андрееву. – Может быть, только старые липы шумят, если с них не содрали кожу».
Казалось бы, все пошло прахом. Писатель Владимир Солоухин, попав в Шахматово, так описал увиденное им: «Когда я почти чуть ли не полвека тому назад впервые добрался до места, где было когда-то Шахматово, то с трудом, лишь по старому серебристому гиганту - тополю кое-как определил, где же был дом поэта… Парк, который так любил Блок и его семья превратился в лес, скрывавший фундамент бекетовского дома».
Однако спустя десятилетия произошло чудо: усилиями подвижников и энтузиастов Шахматово было возрождено почти в том же самом виде, который знал Блок. Музей-заповедник был создан в 1981 г, а его заповедная территория раскинулась на 307 га, сберегая нетронутость окружающего ландшафта. Главный дом усадьбы был восстановлен в 2001 г., а вместе с ним и другие постройки. И к «блоковскому камню», встречающему гостей усадьбы, потянулись и продолжают тянуться сегодня поклонники таланта поэта, который, кажется, вновь живет в своей неброской усадьбе и каждый день выходит на тот же любимый балкон:
И дверь звенящая балкона
Открылась в липы и в сирень,
И в синий купол небосклона,
И в лень окрестных деревень.
Москва в судьбе поэта
 В жизни Блока Москва стала своеобразной светлой отдушиной на фоне мучительно надоедавшего и часто безрадостного Петербурга. И. конечно, она еще с детства увязывалась в сознании поэта со светлым и солнечным Шахматовым, расположенным неподалеку от станции Подсолнечное и в 80 километрах от столицы. Ведь первые посещения ее Блок совершал с родными и близкими именно в детские годы. А с шестнадцати лет поэт стал бывать в Москве подолгу (в 1896, 1897, 1898, 1902 гг.), обитая у своего дяди П.А. Бекетова в доме на Тверской (дом 16, где недавно располагался Дом актера) и общаясь со своими двоюродными братьями. И именно в это время поэт влюбился в город на семи холмах. «Ваша Москва чистая, белая, древняя. Никогда не забуду Новодевичьего монастыря вечером», - писал он тогда и признавался в ощущении счастья, рожденного Москвой: «Московские люди более разымчивы, чем петербургские. Они умеют смеяться, умеют не пугаться. Они добрые, милые, толстые, не требовательные… В Москве смело говорят и спорят о счастье. Там оно за облачком, здесь – за черной тучей. И мне смело хочется счастья…»
В жизни Блока Москва стала своеобразной светлой отдушиной на фоне мучительно надоедавшего и часто безрадостного Петербурга. И. конечно, она еще с детства увязывалась в сознании поэта со светлым и солнечным Шахматовым, расположенным неподалеку от станции Подсолнечное и в 80 километрах от столицы. Ведь первые посещения ее Блок совершал с родными и близкими именно в детские годы. А с шестнадцати лет поэт стал бывать в Москве подолгу (в 1896, 1897, 1898, 1902 гг.), обитая у своего дяди П.А. Бекетова в доме на Тверской (дом 16, где недавно располагался Дом актера) и общаясь со своими двоюродными братьями. И именно в это время поэт влюбился в город на семи холмах. «Ваша Москва чистая, белая, древняя. Никогда не забуду Новодевичьего монастыря вечером», - писал он тогда и признавался в ощущении счастья, рожденного Москвой: «Московские люди более разымчивы, чем петербургские. Они умеют смеяться, умеют не пугаться. Они добрые, милые, толстые, не требовательные… В Москве смело говорят и спорят о счастье. Там оно за облачком, здесь – за черной тучей. И мне смело хочется счастья…»
И счастье улыбалось поэту именно в Москве. Это началось с двух счастливых недель в январе 1904 г., когда в древнюю столицу приехали молодожены Александр и его Прекрасная Дама, Любовь Дмитриевна, и поселились на Спиридоновке. Как вспоминал Андрей Белый о первой встрече с этой парой, «вижу: стоит молодой человек и снимает студенческое пальто, очень статный, высокий, широкоплечий, но с тонкой талией; и молодая нарядная дама… Веселые, молодые, изящные, распространяющие запах духов… Царевич с царевной…»
Далее во время памятного приезда последовала круговерть встреч с тем же Белым, Валерием Брюсовым, Сергеем Соловьевым, Константином Бальмонтом и другими яркими фигурами Серебряного века, а также познание Москвы через знакомство с ее известными местами и укромными уголками.
В Москве Блок становился другим, более спокойным и просветленным, его популярность там, в кругу любителей поэзии, все время возрастала (в октябре 1904 г. в Москве вышли «Стихи о Прекрасной Даме», затем несколько других сборников: издательская удача улыбалась Блоку именно в Москве, там же был поставлен в театре В.Э. Мейерхольда его спектакль «Балаганчик», долгое время в Московском Художественном театре готовилась к постановке драма поэта «Роза и крест»). И Блок всерьез начинал в те годы думать о переезде в Москву. Поэт писал матери, что «мы тысячу раз правы, не видя в Петербурге людей, ибо они есть в Москве», что «нельзя упускать из виду никогда существования Москвы, всего, что здесь лучшее и самое чистое», и признавался друзьям, что он вернулся в город на Неве «завзятым москвичом».
Конечно, именно неповторимый облик и древняя история Москвы увлекали и очаровывали поэта. После той январской поездки 1904 г. Блок в стихотворении «Поединок» «отправил» самого себя в древнюю Москву, где происходила борьба между антихристом Петром и покровителем Москвы Георгием Победоносцем:

Дни и ночи я безволен
Жду чудес, дремлю без сна.
В песнях дальних колоколен
Пробуждается весна.
Чутко веет над столицей
Угнетенного Петра.
Вечерница льнет к деннице,
Несказанней вечера…
Я бегу на воздух вольный
Жаром битвы утомлен…
Бейся колокол раздольный,
Разглашай весенний звон!
Именно «воздух вольный» и дыхание истории всегда тянули Блока в столицу. Историческим колоритом, переносящим автора уже в период Смуты, веет и от стихотворения Блока «Утро в Москве» (1909):
Упоительно встать в ранний час,
Легкий след на песке увидать.
Упоительно вспомнить тебя,
Что со мною ты, прелесть моя.
Я люблю тебя, панна моя,
Беззаботная юность моя,
И прозрачная нежность Кремля
В это утро – как прелесть твоя.
Противопоставление «сумрачного» и даже зловещего Петербурга и «добродушной», «радужной» Москвы встречается у Блока совсем нередко. Оно колоритно звучит в стихотворении «Все это было, было, было…» (1909), напоминающем «Дорожные жалобы» А.С. Пушкина, где автор «Евгения Онегина» перечислял варианты того, как ему суждено будет умереть. Когда уже «свершился дней круговорот», Блок представляет себе, как «на возлюбленной поляне» его тело «расклюет коршун молодой», как «просто в час тоски беззвездной» он «с необходимостью железной» уснет «на белых простынях», а перед этим поэт вот так рассуждает о двух столицах:
В час утра, чистый и хрустальный,
У стен Московского Кремля,
Восторг души первоначальный
Вернет ли мне моя земля?
Иль в ночь на Пасху, над Невою,
Под ветром, в стужу, в ледоход –
Старуха нищая клюкою
Мой труп спокойный шевельнет?
Казалось бы, выхода нет, кругом смерть… Но дальше жизнь в этом стихотворении продолжается:
И в новой жизни, непохожей,
Забуду прежнюю мечту,
И буду также помнить дожей,
Как нынче помню Калиту?
Но верю – не пройдет бесследно
Все, что так страстно я любил,
Весь трепет этой жизни бедной,
Весь этот непонятный пыл!
Блок очень любил жизнь, вспомним его бессмертные слова «О, я хочу безумно жить…». И хотя он, как многие поэты, в том числе С. Есенин, высказывал в своих стихах и откровениях суицидальные мотивы и нередко писал, как его «душит жизни сон тяжелый», как он «задыхается в этом сне», он никогда не смог бы преступить «красную черту», что доказывают последние месяцы его жизни. Да, за полгода до смерти он в одном разговоре как-то спросил своего собеседника: «Вы хотели бы умереть?» И, не дождавшись ответа, сказал: «А я очень хочу…» А в «Записной книжке» он чуть позднее записал, то ли как вопрос к самому себе, то ли как сомнение: «Руки на себя наложить…», и констатировал, что убить себя – это «высший поступок», знак «силы». Однако все это были приметы отчаяния человека, попавшего в водоворот неподвластных ему грозных событий, но никак не обреченность человека, переставшего верить в жизнь.
Естественно, что трагические нотки в судьбу Блока добавляла и Москва, в которой он после 1904 г. бывал очень часто. Чего стоит только история с несостоявшейся в Москве дуэлью поэта с Андреем Белым, любившим жену Блока, узнавшим в августе 1906 г., что та решила избавиться от его «ненужной любви», и прямо заявившим своему сопернику, что «один из нас должен погибнуть». Блок ответил прибывшему к нему секунданту Белого поэту Эллису, что для дуэли поводов нет: «Просто Боря ужасно устал», и он смог убедить самого этого секунданта в своей почти «святости» и отсутствии каких-либо причин для дуэли. Позднее вызов на дуэль пошлет Белому уже сам Блок, недовольный резкой критикой с его стороны творчества поэта. Но и эта дуэль в итоге не состоится. Поэты помирятся только в 1910 г. после двенадцатичасового разговора, закончившегося проводами Блока Белым на вокзале.
С Москвой связан и последний роман в жизни поэта. В Петербурге у него было много любовных историй, а в Москве, пожалуй, только одна: с Надеждой Александровной Нолле-Коган, первая встреча с которой, двадцатичетырехлетней студенткой Бестужевских курсов, случилась еще в 1912 г. в Петербурге. Однако отношения между ними завязались лишь в ноябре 1914 г. И хотя Блок говорил, что он всегда любил только Любовь Дмитриевну, что «у меня женщин не 100-200-300 (или больше?), а всего две: одна Люба; другая – все остальные…», он тяготился тяжелыми отношениями со своей женой. Еще в 1910 г. он писал об этом: «Люба довела маму до болезни. Люба отогнала от меня людей. Люба создала всю ту… утомительность отношений, которая теперь есть… Но я не могу с ней расстаться и люблю ее…»
Роман с Надеждой Нолле-Коган озарил светом два последних приезда Блока в Москву. В мае 1920 г. он 11 дней жил на трехкомнатной квартире Коганов на Арбате, дом 51 (муж Надежды Петр Коган был профессором, критиком-марксистом) и провел эти дни со своей возлюбленной, сопровождавшей его на всех его встречах и на его успешных публичных выступлениях – в Политехническом музее и во Дворце искусств. Блок тогда, по словам Нолле, «повеселел, помолодел, шутил, рисовал карикатуры», они много гуляли по городу, особенно любили сквер у стен Храма Христа Спасителя с их любимой скамейкой.
Прошел год - тяжелый и для страны, и для затухавшего Блока. И 1 мая 1921 г. он вместе с К.Чуковским и издателем С. Алянским прибыл в Москву, где его встречала… беременная Надежда (исследователь Вячеслав Недошивин в своей насыщенной открытиями книге «Адреса любви. Москва, Петербург, Париж» (М., 2014) доказывает, что рожденный через месяц Надеждой мальчик был сыном Блока!). Как вспоминала Нолле-Коган, увидев Блока, она подумала: «Но он ли это! Где легкая поступь, где статная фигура, где светлое, прекрасное лицо?.. От жалости, ужаса, скорби я застыла на месте». Предчувствовалась, по ее словам, «какая-то грозная, неотвратимая, где-то таящаяся катастрофа».
И хотя Блок опять выступал в Москве: в Политехническом, в Доме печати и в Союзе писателей, его встречали уже совсем не так, без оваций, и даже кричали с мест, что он «мертвец». Да и сам он был потухшим и читал стихи мрачные и тяжелые…
Блоку в последний приезд опять запомнилась в Москве та же самая скамейка, когда он вместе с Надеждой с Арбата по еще спящему ночному городу дошел до Храма Христа Спасителя. «Великое спокойствие царило окрест, с реки тянуло запахом влаги, в матовой росе лежал цветущий сквер, а в бледном небе постепенно гасли звезды. День занимался, - вспоминала Надежда. – Как благоуханен был утренний воздух! Как мирно все вокруг! Какая тишина! Мало-помалу Блок успокаивался и светлел».
Потом последовало прощание на вокзале, и хотя до смерти поэта оставалось меньше трех месяцев, Москва провожала поэта светом, приметами цветущего мая и любовью, растворенной в воздухе…
Европейскими дорогами Блока
 Александр Блок – дитя своего времени, и его, конечно, не могла миновать свойственная для поэтов Серебряного века страсть к путешествиям. Однако страсть эта у него была не такой безграничной и всеобъемлющей, как у Н.Гумилева или К. Бальмонта, и тем более она не была многовекторной, влекущей на разные континенты и в разные части света, а ограничивалась одной старой Европой. Еще в 1904 г. Блок признавался, что он рвался «туда, где моря запевают о чуде, туда направляется свет маяка!». А в 1907 г. в «Вольных мыслях» он восклицал о своем желании: «И песни петь! И слушать в мире ветер!»
Александр Блок – дитя своего времени, и его, конечно, не могла миновать свойственная для поэтов Серебряного века страсть к путешествиям. Однако страсть эта у него была не такой безграничной и всеобъемлющей, как у Н.Гумилева или К. Бальмонта, и тем более она не была многовекторной, влекущей на разные континенты и в разные части света, а ограничивалась одной старой Европой. Еще в 1904 г. Блок признавался, что он рвался «туда, где моря запевают о чуде, туда направляется свет маяка!». А в 1907 г. в «Вольных мыслях» он восклицал о своем желании: «И песни петь! И слушать в мире ветер!»
Эти же мотивы Блок высказал и в своей драме «Роза и крест» (1912): «Путь твой грядущий, - скитанье, / Шумный поет океан»; «Мира восторг беспредельный / Сердцу певучему дан…» Однако его реальный опыт путешественника ограничивается, по сути, лишь тремя поездками по Европе в 1909, 1911 и 1913 гг.
В своей автобиографии в июне 1915 г. поэт так охарактеризовал этот опыт: «Из событий, явлений и веяний, особенно повлиявших на меня так или иначе, я должен упомянуть… три заграничных путешествия: я был в Италии – северной (Венеция, Равенна, Милан) и средней (Флоренция, Пиза, Перуджия и много других городков и местечек Умбрии), во Франции (на севере Бретани, Пиренеях – в окрестностях Биаррица, несколько раз жил в Париже); в Бельгии и Голландии; кроме того, мне приводилось почему то каждые шесть лет моей жизни возвращаться в Bad Nauheim (Hessеn-Hassau), с которым у меня связаны особенные воспоминания».
Первый раз Блок и его жена отправились в дальний путь, чтобы отдохнуть от семейных переживаний: смерти отца поэта и ребенка Любови Дмитриевны, которого Блок признал ради сохранения семьи. Именно это путешествие в мае-июне 1909 г. стало самым знаменательным и важным в творческой судьбе поэта. Сохранившиеся письма Блока матери и друзьям во время этой поездки самым лучшим образом показывают, что увидел, чувствовал и пережил Блок - «вечный странник», как он сам себя назвал в одном из итальянских стихов. Вот самые яркие отрывки из этих писем, которые показывают, между прочим, что у Блока были и задатки прозаика.
Матери. 7 мая 1909 г. Венеция. «Я здесь очень много воспринял, живу в Венеции уже совершенно как в своем городе, и почти все обычаи, галереи, церкви, море, каналы для меня — свои, как будто я здесь очень давно. Наши комнаты выходят на море, которое видно сквозь цветы на окнах. Если смотреть с Лидо, весь север окаймлен большими снежными вершинами, часть которых мы проехали. Вода вся зеленая. Это все известно из книг, но очень ново, однако, — новизной не поражающей, но успокоительной и освежающей».
«Здесь хочется быть художником, а не писателем, я бы нарисовал много, если бы умел».
«Несчастную мою нищую Россию с ее смехотворным правительством… с ребяческой интеллигенцией я бы презирал глубоко, если бы не был русским».
«Люба ходит в парижском фраке, я — в венском белом костюме и венецианской панаме. Рассматриваю людей и дома, играю с крабами и собираю раковины. Все очень тихо, лениво и отдохновительно. Хотим купаться в море. Наконец-то нет русских газет, и я не слышу и не читаю неприличных имен Союза русского народа и Милюкова, но во всех витринах читаю имена Данта, Петрарки, Рескина и Беллини. Всякий русский художник имеет право хоть на несколько лет заткнуть себе уши от всего русского и увидать свою другую родину — Европу, и Италию особенно».
Матери. 13 мая 1909 г. Флоренция. «Мама, сегодня мы первый день во Флоренции, куда приехали вчерашней ночью из Равенны… В Равенне мы были два дня. Это — глухая провинция, еще гораздо глуше, чем Венеция. Городишко спит крепко, и всюду — церкви и образа первых веков христианства. Равенна — сохранила лучше всех городов раннее искусство, переход от Рима к Византии. И я очень рад, что нас туда послал Брюсов; мы видели могилу Данта, древние саркофаги, поразительные мозаики, дворец Теодориха.
«Флоренция — совсем столица после Равенны. Трамваи, толпа народу, свет, бичи щелкают. Я пишу из хорошего отеля, где мы уже взяли ванны. Может быть, потом переселимся подешевле, но вообще — довольно дешево все. Во Флоренции надо засесть подольше, недели на две».
Матери. 25–26 мая 1909 г. Флоренция. «Мама, послезавтра мы уезжаем из Флоренции, не знаю еще куда: едва ли в Рим, потому что здесь уже нестерпимо жарко и мускиты кусают беспощадно. Но Флоренцию я проклинаю не только за жару и мускитов, а за то, что она сама себя предала европейской гнили, стала трескучим городом и изуродовала почти все свои дома и улицы. Остаются только несколько дворцов, церквей и музеев, да некоторые далекие окрестности, да Боболи, — остальной прах я отрясаю от своих ног и желаю ему подвергнуться участи Мессины».

Е. П. Иванову. 7 июня 1909 г. Сиена. «Мы в Сиене, это уже одиннадцатый город. Воображение устало. На душе еще довольно смутно. Завтра уедем к морю, может быть, купаться. Из итальянских газет я ничего, кроме страшно мрачного, не вычитываю о России. Как вернуться — не понимаю, но еще менее понимаю, как остаться здесь. Здесь нет земли, есть только небо, искусство, горы и виноградные поля. Людей нет. Но как дальше быть в России, я не особенно знаю. Самым страшным и царственным городом в мире остается, по-видимому, Петербург».
Матери. 19 июня 1909 г. Милан. «Мама, мы в Милане уже третий день и послезавтра уезжаем во Франкфурт… Надо признаться, что эта поездка оказалась совсем не отдохновительной. Напротив, мы оба страшно устали и изнервничались до последней степени. Милан — уже 13-й город, а мы смотрим везде почти все. Правда, что я теперь ничего и не могу воспринять, кроме искусства, неба и иногда моря. Люди мне отвратительны, вся жизнь — ужасна. Европейская жизнь так же мерзка, как и русская, вообще — вся жизнь людей во всем мире есть, по-моему, какая-то чудовищно грязная лужа».
«Я написал несколько хороших стихотворений… Меня постоянно страшно беспокоит и то, как вы живете в Шахматово, и то, что вообще происходит в России. Единственное место, где я могу жить, — все-таки Россия, но ужаснее того, что в ней (по газетам и по воспоминаниям), кажется, нет нигде. Утешает меня (и Любу) только несколько то, что всем (кого мы ценим) отвратительно — всё хуже и хуже».
«Часто находит на меня страшная апатия. Трудно вернуться, и как будто некуда вернуться — на таможне обворуют, в середине России повесят или посадят в тюрьму, оскорбят, — цензура не пропустит того, что я написал… Мне хотелось бы очень тихо пожить и подумать — вне городов, кинематографов, ресторанов, итальянцев и немцев. Все это — одна сплошная помойная яма».
«Подозреваю, что причина нашей изнервленности и усталости почти до болезни происходит от той поспешности и жадности, с которой мы двигаемся. Чего мы только не видели: — чуть не все итальянские горы, два моря, десятки музеев, сотни церквей. Всех дороже мне Равенна, признаю Милан, как Берлин, проклинаю Флоренцию, люблю Сполето. Леонардо и все, что вокруг него (а он оставил вокруг себя необозримое поле разных степеней гениальности — далеко до своего рождения и после своей смерти), меня тревожит, мучает и погружает в сумрак, в «родимый хаос». Настолько же утишает меня и ублажает Беллини, вокруг которого осталось тоже очень много. Перед Рафаэлем я коленопреклоненно скучаю, как в полдень — перед красивым видом. Очень близко мне все древнее — особенно могилы этрусков, их сырость, тишина, мрак, простые узоры на гробницах, короткие надписи. Всегда и всюду мне близок и дорог, как родной, искалеченный итальянцами латинский язык».
«Более чем когда-нибудь я вижу, что ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Ее позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя — не переделает никакая революция. Все люди сгниют, несколько человек останется. Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня — все та же — лирическая величина. На самом деле — ее нет, не было и не будет».
Как видим, во впечатлениях поэта смешались и восторги древней культурой Европы, и преклонение перед силой искусства, и неприятие того влияния, которое оказывает бег времени на облик Италии, особенно Флоренции, и думы о далекой России, без которой поэт не может жить, и о своей личной судьбе. Чтобы все это суммировать Блоку пришлось даже написать очерки «Молнии искусств», однако они так и не были им закончены. В них особенно впечатляют размышления о трагическом развитии цивилизации и истории Италии: «Время летит: год от года, день ото дня, час от часу все яснее, что цивилизация обрушится на головы ее творцов, раздавит их собою; но она – не давит: и безумие длится: все задумано, все предопределено, гибель неизбежна; но гибель медлит… Путешествие по стране, богатой прошлым и бедной настоящим,– подобно нисхождению в дантовский ад. Из глубины обнаженных ущелий истории возникают бесконечно бледные образы, и языки синего пламени обжигают лицо… Италия трагична одним: подземным шорохом истории, прошумевшей и невозвратимой. В этом шорохе ясно слышен голос тихого безумия, бормотание древних сивилл. Жизнь права, когда сторонится от этого шепота. Но где она в современной Италии?»
Однако главным итогом поездки стал поэтический цикл поэта «Итальянские стихи», который постепенно разрастался, включив в себя в итоге 24 стихотворения, которые принесли Блоку еще больше славы: поэт был принят в общество «Академия», где состояли лучшие поэты того времени. Блоку в Италии особенно понравилась милая Равенна, что отразилось вот в этих гениальных стихах:

Всё, что минутно, всё, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.
Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаи́к.
И догорает позолота
В стенах прохладных базилик…
Лишь по ночам, склонясь к долинам,
Ведя векам грядущим счет,
Тень Данта с профилем орлиным
О Новой Жизни мне поет.
Проснулась у Блока в Италии и струна любви, зазвучавшая в стихотворении «Девушка из Spoleto»:
Строен твой стан, как церковные свечи.
Взор твой — мечами пронзающий взор.
Дева, не жду ослепительной встречи —
Дай, как монаху, взойти на костер!
Счастья не требую. Ласки не надо.
Лаской ли грубой тебя оскорблю?
Лишь, как художник, смотрю за ограду
Где ты срываешь цветы,— и люблю!
Не мог Блок не восхититься и красотами неповторимой Венеции, которой он посвятил 3 стихотворения:
Холодный ветер от лагуны.
Гондол безмолвные гроба.
Я в эту ночь — больной и юный —
Простерт у львиного столба.
На башне, с песнию чугунной,
Гиганты бьют полночный час.
Марк утопил в лагуне лунной
Узорный свой иконостас.
В тени дворцовой галлереи,
Чуть озаренная луной,
Таясь, проходит Саломея
С моей кровавой головой.

А вот «Флоренция-изменница», которая удостоилась 7 стихотворений, поначалу совсем не понравилась поэту:
Умри, Флоренция, Иуда,
Исчезни в сумрак вековой!
Я в час любви тебя забуду,
В час смерти буду не с тобой!
О, Bella, смейся над собою,
Уж не прекрасна больше ты!
Гнилой морщиной гробовою
Искажены твои черты!

Хрипят твои автомобили,
Твои уродливы дома,
Всеевропейской желтой пыли
Ты предала себя сама!..
Гнусавой мессы стон протяжный
И трупный запах роз в церквах —
Весь груз тоски многоэтажный —
Сгинь в очистительных веках!
Однако проходит всего несколько дней и облик этого города уже не так отвратителен поэту:
Флоренция, ты ирис нежный;
По ком томился я один
Любовью длинной, безнадежной,
Весь день в пыли твоих Кашин?
О, сладко вспомнить безнадежность:
Мечтать и жить в твоей глуши;
Уйти в твой древний зной и в нежность
Своей стареющей души…
Но суждено нам разлучиться,
И через дальние края
Твой дымный ирис будет сниться,
Как юность ранняя моя.
Восхитила Блока и изумительная Сиена:
В лоне площади пологой
Пробивается трава.
Месяц острый, круторогий,
Башни — свечи божества.
О, лукавая Сиена,
Вся — колчан упругих стрел!
Вероломство и измена —
Твой таинственный удел!
Италия подарила Блоку очень много размышлений, вылившихся в рифмованные афоризмы. Об искусстве: «Искусство — ноша на плечах, / Зато как мы, поэты, ценим / Жизнь в мимолетных мелочах!»; «Так береги остаток чувства, / Храни хоть творческую ложь: / Лишь в легком челноке искусства / От скуки мира уплывешь». О своих терзаниях: «В чёрное небо Италии / Чёрной душою гляжусь». О своей верности Мадонне: «Дашь ли запреты забыть вековые / Вечному путнику — мне? / Страстно твердить твое имя, Мария / Здесь, на чужой стороне?» И, наконец, о своих итальянских приключениях: «Очнусь ли я в другой отчизне, / Не в этой сумрачной стране? / И памятью об этой жизни / Вздохну ль когда-нибудь во сне?»
Летом 1911 года Блок снова отправляется за границу, на этот раз во Францию, Бельгию и Нидерланды. И вновь оставляет преимущественно нелицеприятные размышления об увиденном в своих письмах.
Матери. 21 июля 1911 г. Париж. «Мама, вчера еще утром я был на Unter den Linden, а вечером я стоял на мосту Гогенцоллернов над Рейном и был в Кельнском соборе, а сейчас пришел из Notre Dame, сижу в кафэ на углу Rue de Rivoli против Hotel de Ville, пью citronnade, поезд мчался еще быстрее, чем в Германии, жара, вероятно, до 40°, воздух дрожит над полотном, ветер горячий, Париж совсем сизый и таинственный, но я не устал, а, напротив, чувствую страшное возбуждение. Париж мне нравится необыкновенно, он как-то уже и меньше, чем я думал, и оттого уютно в толпе».
Матери. 2 августа 1911 г. Аберврак. «В общем же жизнь, разумеется, как везде, убога и жалка настолько же, насколько пышно ее можно описать и нарисовать (т. е. — вечное торжество искусства). Разумеется, здесь нет нашей нищеты, но все кругом отчаянно и потно трудится. Этот север Франции, разумеется, беднее, его пожрал Париж, торгуют и набивают брюха на юге. Зато здесь очень тихо; и очень приятно посвятить месяц жизни бедной и милой Бретани. По вечерам океан поет очень ясно и громко, а днем только видно, как пена рассыпается у скал».

Матери. 12 августа 1911 г. Аберврак. «Впоследствии будет приятно вспоминать эту гиперборейскую деревушку, но теперь часто слишком заставляют страдать — скука, висящая в воздухе, и неотъемлемое качество французов (а бретонцев, кажется, по преимуществу) — невылазная грязь, прежде всего — физическая, а потом и душевная. Первую грязь лучше не описывать; говоря кратко, человек сколько-нибудь брезгливый не согласится поселиться во Франции».
Матери. 20 августа 1911 г. Аберврак. «Здесь ясна вся чудовищная бессмыслица, до которой дошла цивилизация, ее подчеркивают напряженные лица и богатых и бедных, шныряние автомобилей, лишенное всякого внутреннего смысла, и пресса — продажная, талантливая, свободная и голосистая».
Матери. 4 сентября 1911 г. Париж. «Мама, жара возобновилась, так что нельзя показать носа на улицу. Кроме того, я не полюбил Парижа, а многое в нем даже возненавидел. Я никогда не был во Франции, ничего в ней не потерял, она мне глубоко чужда — Париж не меньше, чем провинция. Бретань я полюбил легендарную, а в Париже — единственно близко мне жуткое чувство бессмыслицы от всего, что видишь и слышишь: 35° (по Цельсию), нет числа автобусам, автомобилям, трамваям и громадным телегам — все это почти разваливается от старости, дребезжит и оглушительно звенит, сопит и свистит… В Лувр я тщетно ходил и второй раз: в этих заплеванных королевских сараях только устаешь от громадности расстояний и нельзя увидать ни одной картины — до того самый дух искусства истребили французы».
«Потом — вершина Монмартра: весь Париж, окутанный дымом и желто-голубым зноем: купол Пантеона, крыши Оперы и очень тонкий, стройный и красивый чертеж Эйфелевой башни. Но Париж — не то, что Москва с Воробьевых гор. Париж с Монмартра — картина тысячелетней бессмыслицы, величавая, огненная и бездушная. Здесь нет и не могло быть своего Девичьего монастыря, который прежде всего бросается в глаза — во главе Москвы; и ни одной крупицы московского золота и московской киновари — все черно-серое море…»
Точно также поэту, уставшему от «ужасно мучительного» путешествия, не понравились ни Амстердам, ни Брюгге, ни Гаага, ни «серый Берлин», только Антверпен показался более приятным. И неудивительно, что поэт не оставил стихов обо всех этих городах, также как и о Париже, лишь Антверпену поэт посвятил несколько строк.
Летом 1913 года Блок по совету докторов вновь едет во Францию и опять остается недоволен тем, что он видит: «Биарриц наводнён мелкой французской буржуазией, так что даже глаза устали смотреть на уродливых мужчин и женщин… Да и вообще надо сказать, что мне очень надоела Франция и хочется вернуться в культурную страну — Россию, где меньше блох, почти нет француженок, есть кушанья (хлеб и говядина), питьё (чай и вода); кровати (не 15 аршин ширины), умывальники…» В письме В. А. Пясту 19 июля 1913 г. поэт писал: «Дней десять прожили в Париже, он все-таки единственный в мире; кажется, нигде нет большей загнанности и затравленности человеческой; от этого все люди кажутся лучше, и жить можно как угодно, просто и пышно, пошло и не пошло, — все равно никто не обратит внимания». А в письме к матери 12 августа 1913 г. он подытожил: «Париж нестерпим, я очень устал за эти дни… Версаль мне показался даже еще более уродливым, чем Царское Село. Возвращались мы через Булонский лес, который весь вытоптан, ибо в демократических республиках буржуа могут, где им угодно, пастись и гадить».
Вот он парадокс: на фоне хваленой Европы именно Россия видится Блоку как светоч культуры и спасения, и он рвется в нее обратно. Поэт повторил тот же самый вывод, который сделали многие русские поэты, открывавшие зарубежные страны, но возвращавшиеся на Родину, «еще более русскими», как сказал как-то Андрей Белый.
Однако Блок не был бы Блоком, если бы и он, как другие мастера русской рифмы, не проявил во время своих заграничных путешествий ту самую «всемирную отзывчивость», о которой говорил Достоевский. И не случайно он постоянно занимался переводами или переложениями стихотворений европейских поэтов: Шекспира, Байрона, Шиллера, Гейне, Верхарна, специально переводил финских поэтов и армянского поэта Аветика Исаакяна. А в 1912 году Блок написал драму «Роза и Крест» о поисках сокровенного знания трубадура Бертрана де Борна, действие которой происходит в 1208 г. в южной и северной Франции, где бывал поэт.
И на закате жизни Блок в своих «Скифах» (1918) имел право вот так вспоминать европейские картины:
Мы помним все парижских улиц ад,
И венецьянские прохлады,
Лимонных рощ далекий аромат.
И Кёльна дымные громады…
Поэт, опровергая все обвинения России и русских в «азиатчине», раз за разом подчеркивал родство своего Отечества со всем тем лучшим, что подарила Европа миру. И этот завет все мы должны помнить сегодня, как бы ни разваливался европейский континент и его традиционные устои под напором современных испытаний:
Мы любим всё – и жар холодных числ,
И дар божественных видений,
Нам внятно всё – и острый галльский смысл,
И сумрачный германский гений.
Блок и революция
 Великие поэты потому и великие, что они всегда пророки. Таким был и Александр Блок, последние годы жизни которого как специально совпали с самыми трагическими годами революционной бури. Еще 15 апреля 1917 г. поэт признавался матери: «Все-таки мне нельзя отказать в некоторой прозорливости и в том, что я чувствую современность. То, что происходит, - происходит в духе моей тревоги». А «чувствовать современность» Блока заставляли во многом обстоятельства его личной жизни. В июле 1916 г. он был призван в армию и служил табельщиком инженерно-строительной бригады, «заведуя» окопами и блиндажами. И хотя ему не выпало участвовать в боевых действиях, приметы войны он видел воочию. Поначалу поэту на войне даже нравилось, он как-то сказал, что «война – это прежде всего весело!», но потом пришло разочарование, которое вскоре ушло на второй план в ореоле восхищения Февральской революцией, разрушившей старый режим. Блок признавался тогда матери, что он «подал голос за социалистический блок», имея в виду, прежде всего, меньшевиков, но добавил: «А втайне (склоняюсь) – и к большевизму».
Великие поэты потому и великие, что они всегда пророки. Таким был и Александр Блок, последние годы жизни которого как специально совпали с самыми трагическими годами революционной бури. Еще 15 апреля 1917 г. поэт признавался матери: «Все-таки мне нельзя отказать в некоторой прозорливости и в том, что я чувствую современность. То, что происходит, - происходит в духе моей тревоги». А «чувствовать современность» Блока заставляли во многом обстоятельства его личной жизни. В июле 1916 г. он был призван в армию и служил табельщиком инженерно-строительной бригады, «заведуя» окопами и блиндажами. И хотя ему не выпало участвовать в боевых действиях, приметы войны он видел воочию. Поначалу поэту на войне даже нравилось, он как-то сказал, что «война – это прежде всего весело!», но потом пришло разочарование, которое вскоре ушло на второй план в ореоле восхищения Февральской революцией, разрушившей старый режим. Блок признавался тогда матери, что он «подал голос за социалистический блок», имея в виду, прежде всего, меньшевиков, но добавил: «А втайне (склоняюсь) – и к большевизму».
Блока захватила работа в чрезвычайной комиссии по расследованию преступлений царизма в качестве редактора, а ее итогом стал выпуск им позднее книги «Последние дни Императорской власти». И неудивительно, что поэт, чувствовавший месяц за месяцем нарастание той самой «общественной тревоги», воспринял с восторгом и произошедшие в Петрограде октябрьские события, хотя они и носили стихийный характер. Лавина событий – от первых эксцессов революционной смуты до разгона Учредительного собрания - увлекла поэта с головой.
И так получилось, что именно в январе 1918 г., когда поэт отпраздновал памятную для него дату, помеченную 10 января: «Двадцать лет я стихи пишу», он выплеснул из себя все, что зрело и накапливалось в нем в переломные месяцы. 8 января он начал писать поэму «Двенадцать» и фактически создал ее за два дня, хотя завершил он это произведение набело только 28 января, записав на следующий день в своей записной книжке: «Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг… Сегодня я – гений». (Уже 18 февраля поэма была напечатана в газете «Знамя труда» и потом выдержала много изданий и переводы на иностранные языки).
Позднее Блок так оценил этот взлет своей творческой энергии: «…В январе 1918 г. я в последний раз отдался стихии… Во время и после окончания «Двенадцати» я несколько дней ощущал физически, слухом, большой шум вокруг – шум слитный (вероятно, шум от крушения старого мира)». Как признавался поэт, жизнь тогда «разбушевалась», и он «смотрел на радугу», появившуюся от брызг бурления моря жизни. «Двенадцать» - какие бы они ни были – это лучшее, что я написал. Потому что тогда я жил современностью», - признавался поэт. Он писал, что «было бы неправдой… отрицать всякое отношение «Двенадцати» к политике», а когда его спросили, что, наверное, поэма была написана в муках, он сразу ответил: «Нет, наоборот, это сделано в порыве, вдохновенно, гармонически цельно». «Оттого я и не отрекаюсь от написанного тогда, что оно было написано в согласии со стихией», - подытожил поэт шумевшую вокруг его поэмы дискуссию в апреле 1920 г.

Поэма «Двенадцать» действительно гениальна по своей простоте, новизне и, главное, по отражению в ней того, что захлестнуло тогда матушку-Россию:
Черный вечер.
Белый снег.
Ветер, ветер!
На ногах не стоит человек.
Ветер, ветер —
На всем божьем свете!..
Гуляет ветер, порхает снег.
Идут двенадцать человек.
Винтовок черные ремни,
Кругом — огни, огни, огни…
В зубах — цыгарка, примят картуз.
На спину б надо бубновый туз!
Свобода, свобода,
Эх, эх, без креста!
Тра-та-та!
Красногвардейцы олицетворяют собой у Блока вышедший на историческую арену «революционный народ», готовый сломать до основания «старый мир»:
Мы на горе всем буржуям
Мировой пожар раздуем,
Мировой пожар в крови —
Господи, благослови!
И «старый мир» уже чувствует свою обреченность, как «пес безродный»:
Не слышно шуму городского,
Над невской башней тишина,
И больше нет городового —
Гуляй, ребята, без вина!
Стоит буржуй на перекрестке
И в воротник упрятал нос.
А рядом жмется шерстью жесткой
Поджавши хвост паршивый пес.
Стоит буржуй, как пес голодный,
Стоит безмолвный, как вопрос.
И старый мир, как пес безродный,
Стоит за ним, поджавши хвост.
А в конце поэмы Блок вообще сделал то, что вызвало сразу и вызывает до сих пор целую бурю эмоций и споров: он соединил стихию революции с Иисусом Христом:
…Так идут державным шагом —
Позади — голодный пес,
Впереди — с кровавым флагом,
И за вьюгой невиди́м,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз —
Впереди — Исус Христос.
Ох, и загадал Блок загадку со своим «Христосом с красногвардейцами». В июне 1919 г., когда Н. Гумилев сказал, что конец поэмы ему кажется «искусственно приклеенным», Блок ответил: «Мне тоже не нравится конец «Двенадцати». Я бы хотел, чтобы этот конец был иной. Когда я кончил, я сам удивился: почему Христос? Но чем больше я вглядывался, тем яснее я видел Христа». Поэт даже писал, что он сам ненавидит этот «женственный призрак», но ничего сделать уже не мог: сама музыка революции, нацеленной на создание общества справедливости и благоденствия, родила и подсказала ему этот образ. И когда вокруг поэта за осквернение им ценностей и свободы, и христианства поднялся дикий шум в либеральном стане (они «злятся на меня страшно»), Блок ответил своим критикам: «Господа, вы никогда не знали России и никогда ее не любили!» «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте Революцию», - призывал поэт, оставшийся со своим народом, пусть этот народ и заблуждался, путался и совершал очевидные глупости. Поэт писал в то время З. Гиппиус, что нас разделил не только 1917-й, но и 1905-1 год, а «Великий Октябрь» разрубил все затянутые ранее узлы.
Однако памятный январь 1918 г. одной поэмой «Двенадцать» не исчерпывается. Блок успел за 2 дня – 29 и 30 января – написать своих гениальных «Скифов», а во время работы над «Двенадцатью» он еще и создал свою итоговую статью «Интеллигенция и революция». «Скифы» - это стихия революция, выведенная поэтом уже на вселенский уровень, он предчувствует мировые битвы и катаклизмы, которые захватят в будущем и Европу, и Азию, и Америку:

Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
Попробуйте, сразитесь с нами!
Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
С раскосыми и жадными очами!..
Для вас - века, для нас - единый час.
Мы, как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас
Монголов и Европы!..
Россия - Сфинкс! Ликуя и скорбя,
И обливаясь черной кровью,
Она глядит, глядит, глядит в тебя
И с ненавистью, и с любовью!..
В последний раз - опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!
А в статье «Интеллигенция и революция» Блок повторил те же тезисы о своей вере в революцию, потрясшую страну до основания: «России суждено пережить муки, унижения, разделения; но она выйдет из этих унижений новой и – по-новому – великой… Дело художника, обязанность художника – видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух».
Что же задумано? Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью.
Когда такие замыслы, искони таящиеся в человеческой душе, в душе народной, разрывают сковывавшие их путы и бросаются бурным потоком, доламывая плотины, обсыпая лишние куски берегов, это называется революцией. Меньшее, более умеренное, более низменное – называется мятежом, бунтом, переворотом. Но это называется революцией.
Она сродни природе. Горе тем, кто думает найти в революции исполнение только своих мечтаний, как бы высоки и благородны они ни были. Революция, как грозовой вихрь, как снежный буран, всегда несет новое и неожиданное; она жестоко обманывает многих; она легко калечит в своем водовороте достойного; она часто выносит на сушу невредимыми недостойных; но – это ее частности, это не меняет ни общего направления потока, ни того грозного и оглушительного гула, который издает поток. Гул этот, все равно, всегда – о великом.
Размах русской революции, желающей охватить весь мир (меньшего истинная революция желать не может, исполнится это желание или нет, – гадать не нам), таков: она лелеет надежду поднять мировой циклон, который донесет в заметенные снегом страны – теплый ветер – и нежный запах апельсинных рощ; увлажнит спаленные солнцем степи юга – прохладным северным дождем».
Вот так: революция – это «мировой циклон», «великий гул», и противиться ему не стоит, какие бы тяжкие последствия он не принесет стране. Конечно, Блок не был идеалистом, он писал и о том, что «всякая политики так грязна, что одна ее капля замутит и разложит все остальное», что «революция не идиллия», что народ совсем «не паинька», что «бескровно» и «безболезненно» не может разрешиться «вековая распря между «черной» и «белой» костью… между интеллигенцией и народом». Однако все равно стоял на своем.
Несмотря на всю оголтелую критику, Блок, увидевший «рабочую сторону» большевизма,, желавший «не терять крыльев (присутствия духа)», на вопрос: «Может ли интеллигенция работать с большевиками?», ответил: «Может и обязана». «Быть вне политики…»? – С какой же это стати? Это значит – бояться политики, прятаться от нее… Нет, мы не можем быть вне политики», - записал он в дневнике 28 марта 1919 г. И поэт пошел на сотрудничество с новой властью, пытавшейся использовать его имя в своих пропагандистских целях. Поэт активно работал в издательстве «Всемирная литература», в различных наркомпросовских комиссиях, с 1919 г он был одним из директоров петроградского Большого театра, при этом постоянно выступал со своими стихами и был безмерно популярен и востребован.
Однако реалии революции становились постепенно все более грозными и тягостными, то и дело Блока и его семью одолевали голод, холод и безденежье. Поэт вообще в 1918-1921 гг., не считая поэм, написал всего лишь не более десятка новых стихотворений: настолько гнетуща была кипевшая вокруг жизнь. И не случайно последнее сохранившееся стихотворение поэта «Пушкинскому Дому» (11 февраля 1921 г.) посвящено именно «солнцу русской поэзии», продолжавшему дарить силы и в эпоху революционных потрясений:
Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?
Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца звук -
Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук.
Шаг за шагом настроения Блока становились все более мрачными, он все чаще стал задумываться о смерти: «Если так много ужасного сделал в жизни, надо хоть умереть честно и достойно», терял веру в жизнь: «А там – старость, бездарность», «Почти год как я не принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах», переживал о судьбе своей сожженной крестьянами усадьбе: «Снилось Шахматово…Отчего я сегодня ночью так обливался слезами о Шахматове». Особенно тягостным стал для поэта 1921 год. 6 февраля он записал в дневнике: «Следующий сборник стихов, если будет: «Черный день», а 26 мая он написал очень горькие слова в письме к К.И. Чуковскому: «Но сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда еще: жар не прекращается, и все всегда болит. …Слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросенка». Хотя тут же добавил: «Может быть, еще поправимся».
Дело в том, что проживание в голодном и холодном Петрограде давно подорвало здоровье поэта, у него развилась астма, появились психические расстройства и даже была выявлена цинга. А после возвращения из Москвы в мае 1921 г. у поэта случился первый припадок сердечной болезни. Как вспоминал С. Алянский, «болезнь продолжала прогрессировать. Настал день, когда Александр Александрович не мог совсем вставать с постели. Доктор заявил, что больному необходимы санаторные условия…» Блок давно отказывался уезжать куда-либо заграницу, ибо «не видел разницы между эмигрантством, которое ненавидел, и поездкой для лечения». В конце концов, поэт согласился на поездку, но только в Финляндию.
Однако далее произошла одна из самых позорных страниц в «культурной политике» Советской власти. 12 июля на заседании Политбюро поэту было в выезде отказано, против выступили Ленин, Г.Зиновьев и В.Молотов. А.В. Луначарский признавался, что «мы в буквальном смысле слова, не отпуская поэта и не давая ему вместе с тем необходимых удовлетворительных условий, замучали его». Выхлопотанное Л. Б. Каменевым и тем же Луначарским на последующем заседании Политбюро разрешение на выезд было подписано 23 июля, но потребовалось разрешение и на выезд жены поэта, а оно было одобрено только 1 августа, да и то о нем узнали в семье Блока только 6 августа, когда поэту оставалось жить одни сутки.

Похороны А. Блока. 10 августа 1921 г.
В последние дни жизни Блок говорил: «Я уже ничего не слышу», имея в виду скорее не физическую глухоту, а духовный слух. Умирал он тяжело, говорил: «Мне пусто, мне постыло жить!», «Гибель лучше всего», бредил об одном и том же, как писал Г.Иванов: «все ли экземпляры «Двенадцати» уничтожены», «Люба, хорошенько поищи и сожги, все сожги…» Что это было: раскаяние поэта за содеянное, пересмотр старых взглядов? Жизнь оказалась сложнее, страшнее и запутанней, чем это представлялось Блоку в поэтических откликах на «стихию революции»…
Блок умер 7 августа 1921 г. в воскресенье в 10 с половиной часов утра, а вместе с ним умирал тогда и Серебряный век. Похороны поэта потрясли город на Неве, все почувствовали, что ушла целая эпоха, но поэзия Блока осталась жить, как она остается живой и сегодня, озаряя своим светом и надеждой и нынешние времена:
О, весна без конца и без края –
Без конца и без краю мечта!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита!

Тайны Болдинской осени
Известный факт, что один из самых творческих периодов жизни Александра Сергеевича Пушкина пришелся на его изоляцию в деревне Болдино осенью 1830 г., когда на Россию обрушилась эпидемия холеры. В серии очерков «Тайны Болдинской осени» историк Сергей Дмитриев рассказывает о том, как поэт оказался в изоляции на Нижегородчине, что он делал в глухой деревне несколько месяцев и как спасался от хандры в творчестве.
Пушкин на пути к карантину

Удивительны совпадения, которые дарит нам история: 190 лет назад у А.С. Пушкина «случилась» Болдинская осень и тогда же, в 1830 г., в России началась первая масштабная эпидемия почти неизвестной ранее в стране холеры – самого смертоносного инфекционного заболевания XIX в., вибрион которого удалось выделить медикам только в 1854 г. И эта эпидемия в чем то схожа по накалу страстей с пандемией коронавируса, которые все мы сейчас переживаем. А Пушкину пришлось пережить в период взлета своего творчества соседство с холерой, зародившейся впервые где-то в Бенгалии и продолжавшейся в Евразии почти целый век — с 1816 по 1923 гг. На территории России холера была впервые массово зафиксирована в 1823 г. в Астрахани, но потом в течение 6 лет почти не проявлялась. Однако в 1829 г. в долине Ганга началась теперь уже настоящая, почти всемирная, пандемия холеры, перебросившаяся в Персию и Османскую империю, а оттуда в Грузию и в южные районы России.
Удивительно, что Пушкину, который всегда интересовался медицинскими вопросами, было известно о холере еще задолго до эпидемии 1830 г. Об этом сам поэт рассказал в своей заметке «О холере», написанной в Болдино. Он уверял, что еще в 1826 г. его приятель, студент А. Вульф сказал, что «Cholera-morbus подошла к нашим границам и через пять лет будет у нас». По словам Пушкина, «о холере имел я довольно темное понятие, хотя в 1822 году старая молдаванская княгиня, набеленная и нарумяненная, умерла при мне в этой болезни. Я стал его расспрашивать. Студент объяснил мне, что холера есть поветрие, что в Индии она поразила не только людей, но и животных…»
А в 1829 г. Пушкин во время своего путешествия в Эрзурум встретился с другой напастью того времени – чумой, проявив тогда столь свойственную ему храбрость. Он даже из любопытства посетил чумной лагерь и, как он писал, «обратил внимание на двух турков, которые выводили больного под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город». 
Пушкину удалось срочно выехать из армии и не заразиться. А в карантине в Гумрах он провел тогда только трое суток, и этот «немного бесшабашный» опыт повлиял на поведение Пушкина во время эпидемии холеры, которую он поначалу не очень-то и боялся. Еще не отправившись в Болдино, поэт, живший в Москве у своего друга П.А. Вяземского, узнал от него, что холера уже подступила к Нижегородчине, куда направлялся Пушкин, но это ничуть не остановило его именно из-за опыта, полученного во время пребывания в Азии: «Я поехал с равнодушием, коим был обязан пребыванию моему между азиатцами. Они не боятся чумы, полагаясь на судьбу и на известные предосторожности, а в моем воображении холера относилась к чуме, как элегия к дифирамбу».
Как вспоминал писатель М. Н. Макаров еще в августе 1830 г. Пушкин «уверял, что холера не имеет прилипчивости, и, отнесясь ко мне, спросил: „Да не боитесь ли и вы холеры?“ Я отвечал, что боялся бы, но этой болезни еще не понимаю. „Не мудрено, вы служите подле медиков. Знаете ли, что даже и медики не скоро поймут холеру. Тут все лекарство один courage, courage, и больше ничего“».
Последние исследования медиков и психологов доказывают, что психическое состояние человека, его готовность к противодействию опасности, оптимистический настрой серьезно влияют на иммунитет человека. Получается, что Пушкин еще 190 лет назад подсознательно понимал важность «куража и бесстрашия» в борьбе с холерой, которые, конечно, не должны были противоречить элементарным правилам гигиены и правильного поведения в повседневной жизни.
Уже на пути в Болдино Пушкин увидел приметы надвигавшейся холеры: «На дороге встретил я Макарьевскую ярманку, прогнанную холерой. Бедная ярманка! она бежала, как пойманная воровка, разбросав половину своих товаров, не успев пересчитать свои барыши! Воротиться казалось мне малодушием; я поехал далее, как, может быть, случалось вам ехать на поединок: с досадой и большой неохотой. Едва успел я приехать, как узнаю, что около меня оцепляют деревни, учреждаются карантины. Народ ропщет, не понимая строгой необходимости и предпочитая зло неизвестности и загадочное непривычному своему стеснению. Мятежи вспыхивают то здесь, то там». Вот так Пушкин очутился в плену, который обернулся самым фантастическим взлетом в его творчестве.
А что же заставило поэта отправиться за 540 верст от Москвы? Дела житейские… Дело в том, что весной 1830 г. поэт получил, наконец, согласие на его свадьбу с Натальей Гончаровой и должен был подготовиться к этому знаменательному событию. Отец выделил ему деревню Кистенёво с двумястами душами крестьян, и Пушкин следовало вступить в ее владение. Он планировал после этого заложить ее в Опекунском совете, а вырученные деньги использовать на приданное, которое он обещал дать в долг матери невесты, на организацию свадьбы и своего дальнейшего быта. К этому обстоятельству добавилась смерть в Москве 20 августа 1830 г. дяди поэта Василия Львовича Пушкина. Поэту пришлось взять на себя все хлопоты и затраты по похоронам родственника, и, конечно, свадьбу пришлось в связи с этим отложить. А накануне отъезда поэт опять поссорился с матерью невесты и начал считать свадьбу почти расстроенной. 31 августа в письме к другу П.А. Плетневу Пушкин так выразил свое тяжелое настроение: «…У меня на душе: грустно, тоска, тоска…Осень подходит. Это любимое мое время - …пора моих литературных трудов настает – а я должен хлопотать о приданном, да о свадьбе, которую сыграем Бог весть когда… Еду в деревню, Бог весть буду ли там иметь время… и душевное спокойствие, без которого ничего не произведешь, кроме эпиграмм на Каченовского».

Никогда не знаешь, что ждет тебя впереди! И времени для творчества выпадет вскоре Пушкину более чем достаточно и душевное равновесие у него все-таки появится, несмотря на все кипевшее вокруг. Поэт выехал из Москвы 1 сентября 1830 г. и впервые въехал в нижегородскую вотчину Пушкиных 4 сентября. И он не мог знать, что уже через несколько дней, 9 сентября, в стране будет образована Центральная комиссия для пресечения холеры. В крупных городах начали разворачивать временные холерные больницы, а возглавить борьбу с холерой Николай I поручил министру внутренних дел А.А. Закревскому, который в первую очередь всю Россию избороздил карантинами, — они совершенно парализовали хозяйственную жизнь страны. Тысячи людей с лошадьми, товарами задерживались у многочисленных застав и должны были высиживать карантины. В тех, кто пытался без спроса пробираться через оцепления, приказано было стрелять. Все это вызывало недовольство населения, перераставшее в некоторых местах в холерные бунты.
В Москве начали заболевать еще в сентябре 1830 г., к октябрю число жертв составило более ста человек, а в конце этого месяца каждый день заражалось уже по 100 человек в день. Власти принимали все возможные меры для борьбы с эпидемией. В Москве был введён строгий карантин, город был оцеплен войсками, все въезды и выезды были перекрыты. В городе закрылись правительственные учреждения, фабрики, учебные заведения и театры. Улицы города опустели. Москвичи жгли листву и все то, что давало много дыма, считая, что это спасает от распространения инфекции. По городу разъезжали кареты с больными в сопровождении полиции и страшные чёрные фуры с телами погибших.
Как же конкретно боролись с холерой в Москве? Известно, что людей потчевали «вонючей хлористой известью», и такая диета, по словам А.И. Герцена, пережившего эпидемию, «одна без хлору и холеры могла свести человека в постель». Популярным средством тогда стал так называемый «уксус четырех разбойников», в котором смешивали яблочный или винный уксус, измельченные травы вроде полыни, шалфея или мяты, чеснок, и все это настаивали несколько дней и потом употребляли. Немудрено, что чеснок вырос тогда в цене в 40 раз (заметим почти также как и при коронавирусе!). Среди средств от холеры часто применялось окуривание комнат можжевеловым дымом. Уже к 13 ноября холерой заразились 4 500 москвичей, из них 2 340 умерли, а 818 уже выздоровели. К концу января 1831 г. общее число пострадавших от болезни москвичей составляло 8 576 человек.
Болдинские испытания Пушкина

А теперь обратимся к тому, что же происходило осенью 1830 г. в самом Болдине, и что советуем нам сегодня из далёкого далёка, из карантинной самоизоляции, великий Пушкин? В мировой истории есть примеры того, как знаменитые люди во время различных карантинов, в том числе чумных и холерных, умудрялись творить и дарить человечеству великие творения. Вспомним хотя бы Лукиана, написавшего в 165 г. во время чумной эпидемии своего «Александра, или Лжепророка», Джованни Бокаччо с его великим «Декамероном», написанным примерно в 1352-1354 гг. во Флоренции, Уильяма Шекспира, создавшего в 1605-1606 г. свои бессмертные комедии «Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра». Однако никто из перечисленных не сможет соревноваться по объему и разнообразию написанного Пушкиным в дни его Болдинской осени, длившейся не так уж и много – всего около 80 дней, не считая времени потерянного на дорогу туда и обратно и на выезды из имения, которые заняли не менее 5-6 дней.
«Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно уже не писал, – так сам Пушкин рассказывал о своем творческом порыве в переписке со своим другом Плетневым. – Вот что я привез сюда: 2 последние главы Онегина, 8-ю и 9-ю, совсем готовые в печать. Повесть писанную октавами (стихов 400), которую выдадим Anonyme. (Имеется в виду «Домик в Коломне». – С.Д.). Несколько драматических сцен, или маленьких трагедий. Именно: «Скупой Рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Пир во время Чумы» и «Д. Жуан». Сверх того написал около 30 мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все: написал я прозою 5 повестей, от которых Баратынский ржёт и бьётся…». Пушкин имел здесь в виду свои знаменитые «Повести Белкина». И к этому списку творений следует добавить 10-ю, уничтоженную, но и одновременно зашифрованную Пушкиным, главу «Евгения Онегина», «Сказку о попе и о работнике его Балде», «Сказку о Медведихе», целый ряд литературно-критических заметок и много писем. Получается, что не случись тогда вспышки холеры, наследие Пушкина было бы менее впечатляющим!
Отсюда следует первый совет, который передал нам сквозь время Пушкин: несмотря ни на какие эпидемии, сложности и испытания, надо трудиться и творить!
Конечно, карантин поэта в Болдино не очень-то напоминает то, что испытывают сегодня в городах спасающиеся от коронавируса люди. У Пушкина была свобода действий в рамках имения и природных окрестностей, и он не зря оставил о своем заточении такие бодрые слова: «Ах, мой милый! что за прелесть здешняя деревня! вообрази: степь да степь; соседей ни души; езди верхом сколько душе угодно, пиши дома сколько вздумается, никто не помешает». Как тут поэту было не «наготовить всякой всячины, прозы и стихов», как он сам выражался!
Справедливости ради следует уточнить, что почти весь сентябрь – а это более 25 дней, почти треть всей Болдинской осени, - поэта в Болдино держала не холера, а самые прозаические дела. Приехав туда, он сразу подал прошение о вступлении во владение сельцом Кистенёво, но выяснилось, что поэт мог претендовать только на часть имения – 200 из 500 душ, и требовалось оформить их в индивидуальную собственность. И вот 16 сентября кистеневские крестьяне присягнули своему новому владельцу, а еще через две недели было готово свидетельство о правах собственности, что позволило поэту позднее заложить имение в Опекунском совете за 40 000 рублей и тем самым решить, хоть и на краткое время, свои денежные проблемы накануне свадьбы, пустив часть этих денег на приданное (11 000 руб.).

Б. Болдино на карте А. И. Менде 1850 года
К началу октября поэту можно было бы уезжать из Болдино, но «неведомый ранее зверь» уже вступил в свои права. Еще 9 сентября Пушкин написал о нем Плетневу, вспомнив при этом о своем недавно умершем дяде и намекнув на «пахнувшее на него» дыхание смерти: «…Приехал я в деревню и отдыхаю. Около меня колера морбус. Зна¬ешь ли, что это за зверь? Того и гляди, что забежит он и в Болдино, да всех нас перекусает — того и гляди, что к дяде Василью отправлюсь, а ты и пиши мою биографию».
Как видим, чувство юмора и иронию поэт совсем не терял в те тревожные дни, оставив нам свой второй завет – использовать это чувство юмора для укрепления духа!
В письме к своей невесте Пушкин даже назвал как то холеру «миленькой особой»: «Еще более опасаюсь я каран¬тинов, которые начи¬нают здесь устанавливать. У нас в окрестностях — Cholera morbus (очень миленькая особа). И она может задер¬жать меня еще дней на двадцать!» А вот образец самоиронии поэта над своими свадебными тревогами в письме к тому же Плетневу от 9 сентября: «Ты не можешь вообразить, как весело удрать от невесты, да и засесть стихи писать. Жена не то, что невеста. Куда! Жена свой брат. При ней пиши сколько хошь. А невеста пуще цензора Щеглова, язык и руки связывает…»
В письме к Плетневу от 29 сентября Пушкин упомянул в качестве смешного случая и свое выступление перед крестьянами; «…Я бы хотел переслать тебе проповедь мою здешним мужикам о холере; ты бы со смеху умер, да не стоишь ты этого подарка». Дело в том, что Пушкина, как и многих других дворян, обязали проводить среди местных жителей разъяснительную работу о том, что такое холера и как от нее уберечься. И он, как вспоминала жена нижегородского губернатора А.П. Бутурлина, на вопрос, что же он делал в Болдино, отвечал, что «говорил проповеди… Да, в церкви, с амвона, по случаю холеры. Увещевал их. – И холера послана вам, братцы, оттого, что вы оброка не платите, пьянствуете, а если вы будете продолжать так же, то вас будут сечь. Аминь».
Смех смехом, но Пушкину было предложено Лукояновским уездным предводителем дворянства принять должность по надзору за холерными карантинами. Поэт, сославшись на то, что он не помещик здешней губернии, отказался и в ответ не получил от начальства в начале октября разрешение на проезд до Москвы.
Готовясь отправиться в Москву в конце сентября, Пушкин сначала узнал от соседки по имению княгини А.С. Голицыной, что до Москвы его ждут 5 карантинов, в каждом из которых придется провести по 14 дней, он написал об этом невесте, а потом предпринял первую попытку прорваться в столицу. Как Пушкин сам сообщал в своей записке «О холере», «вдруг 2 октября получаю известие, что холера в Москве. Страх меня пронял — в Москве... но об этом когда-нибудь после. Я тотчас собрался в дорогу и поскакал. Проехав 20 верст, ямщик мой останавливается: застава!
Несколько мужиков с дубинами охраняли переправу через какую-то речку. Я стал расспрашивать их. Ни они, ни я хорошенько не понимали, зачем они стояли тут с дубинами и с повелением никого не пускать. Я доказывал им, что, вероятно, где-нибудь да учрежден карантин, что я не сегодня, так завтра на него наеду, и в доказательство предложил им серебряный рубль. Мужики со мной согласились, перевезли меня и пожелали многие лета».

Однако Пушкину все равно пришлось вернуться назад. И после этого у него не могло не испортиться настроение в создавшейся критической ситуации: «Что до нас, то мы оцеплены карантинами, но зараза к нам еще не проникла. Болдино имеет вид острова, окруженного скалами». Все происходившее поэт возвел в разряд судьбоносных событий. Вот как он писал о холерных опасностях в своих гениальных «Дорожных жалобах», рожденных в Болдино и вобравших в себя все злоключения поэта на жизненных дорогах:
Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.
Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.
Но поэт все-таки нашел в себе силы «не зачахнуть» и «не околеть со скуки» в вынужденном карантине. Он в итоге признал для себя неизбежность, как бы мы себе сейчас сказали, самоизоляции, и это позволило ему сформулировать для нас еще один важный – третий по счету - совет выживаемости в экстремальных условиях эпидемий. Послушаем, как он изложил его в письме к невесте 11 октября:
«Добровольно подвергать себя опасности заразы было бы непростительно. Я знаю, что всегда преувеличивают картину опустошений и число жертв; одна молодая женщина из Константинополя говорила мне когда-то, что от чумы умирает только простонародье, — всё это прекрасно, но всё же порядочные люди тоже должны принимать меры предосторожности, так как именно это спасает их, а не их изящество и хороший тон».
О том, как осторожен был Пушкин, свидетельствует и его письмо к невесте в начале ноября с осуждением поведения дворян, прятавшихся от эпидемии именно в зачумленной Москве, хотя они имели возможность покинуть столицу: «Как вам не стыдно было оставаться на Никитской во время эпидемии? Так мог поступать ваш сосед Адриян, который обделывает выгодные дела. Но Наталья Ивановна, но вы! — право, я вас не понимаю». А в письме к композитору А.Н.Верстовскому поэт давал вот такие советы против холеры своему другу Нащокину: «Итак, пускай он купается в хлоровой воде, пьет мяту — и, по приказанию графа Закревского, не предается унынию».
«Пир во время чумы», или Приметы пушкинской мудрости

Болдинская осень подарила расцвет драматургического таланта Пушкина, проявившегося ранее в «Борисе Годунове». И создавая свои «Маленькие трагедии», поэт не мог обойти темы эпидемий, обратившись почти единственный раз в своей жизни к переводческому ремеслу: попытке перевода трагедии не очень известного в то время шотландского поэта Джона Вильсона «Чумной город», посвященную событиям «великой чумы» 1665 г., унесшей в могилы 68 тысяч человек. Пушкин написал лишь одну неполную сцену трагедии (в оригинале было три акта в тринадцати сценах), и поэтому обозначил в подзаголовке: «Из вильсановой трагедии: The city of plague».
В этой краткой сцене поэт уместил и картины чумного ужаса, когда кругом правит «зараза, гостья наша», и преступную беспечность пирующих во время чумы: «Но много нас еще живых, и нам / Причины нет печалится», и воспоминания о былой благодатной жизни. Председатель Вальсингам, самая трагическая фигура действия, потерявший во время чумы и жену, и мать, поет «Гимн в честь чумы!», в котором безрассудство пиршества пытается оправдать ставшими хрестоматийными словами об «упоении в бою»:

«Пир во время чумы». 1936 г. Ксилография
Как от проказницы Зимы,
Запремся также от Чумы!
Зажжем огни, нальём бокалы,
Утопим весело умы
И, заварив пиры да балы,
Восславим царствие Чумы.
Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане,
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении Чумы.
Вроде бы это гимн смелости, бесстрашию и геройству, гимн людям, идущим опасностям напролом, но не на фоне же чумы такой героизм следует проявлять? И, конечно, весь этот пафос осуждается самим автором, который вводит в действие Священника, призывающего прекратить постыдный пир и обратиться к молениям. Но Председатель, не желающий подчиняться, отвечает: «Дома́ у нас печальны — юность любит радость». Анна Ахматова говорила, что ни в одном из творений мировой поэзии не звучат так резко вопросы морали как в «Пире во время чумы». И, конечно, Пушкин вложил в эту трагедию свои размышления о том, как надо вести себя в условиях будоражащей сердце опасности, отсюда его знаменитое: «Есть упоение в бою, и бездны мрачной на краю».
Болдинская осень вообще оказалась переломным моментом в судьбе Пушкина, в эти три месяца поэт фактически закончил свое главное творение - «Евгения Онегина», укрепил себя в роли драматурга со своими гениальными «Маленькими трагедиями», сказочника, укреплявшего традиции русской национальной сказки, и литературного критика, живо откликающегося на новинки литературы, а главное он все больше и больше склонялся к прозе, сделав заявку на это своими неожиданными «Повестями Белкина». В последующие годы Пушкин все более явно становился прозаиком (вспомним: «Лета к суровой прозе клонят…») и историком, причем профессиональным, с постоянной работой в архивах. А чисто поэтические занятия постепенно уходили у него на второй план.
По сути, именно в Болдино Пушкин пережил высший расцвет своего поэтического творчества. Об этом могут свидетельствовать хотя бы такие примерные цифры: если в 1828-1830 годах Пушкин, не считая поэм, сказок и драм, ежегодно сочинял около 50 лирических стихотворений, то в 1831-1832 гг. таких стихотворений появлялось уже не более 10 в год, в 1833-1834 гг. – не более 20, в 1835 г. – около 25, а в 1836 г. – всего лишь около 15. А ведь только в Болдино за 80 дней родилось более 30 стихотворений, да еще каких!
А что касается личной жизни поэта, то сразу после Болдина его ждала свадьба, появление потомства и совсем иная шестилетняя семейная жизнь, во многом поменявшая образ его существования. Пушкин как будто бы чувствовал в болдинские дни, что он оказался на переломе своей судьбы, и потому посчитал необходимым, что называется, высказаться по полной. Холера, смерть дяди, хлопоты о деньгах и еще не устроенной свадьбе, раздумья о счастье, любви и смерти – все это соединилось тогда странным образом. Всплеск творчества и жизненных коллизий поэта осенью 1830 г. не мог не вылиться в потрясающие духовные, философские и эмоциональные открытия, наполнившие его строки биением чувств.
Поразительно, но во многих болдинских творениях, причем не только первого периода заточения, сквозит мрачное настроение поэта, да еще и овеянное постоянным дыханием смерти и даже бесовщины. Взять хотя бы первое стихотворение, рожденное в Болдино, «Бесы», в котором «бесы разны» просто роятся вокруг, сбивая поэта с пути. Причем в те погожие осенние дни поэт писал почему то именно о «мутной вьюге» и снеге, ему было «поневоле страшно», а сердце его «надрывалось»:
Бесконечны, безобразны,
В мутной месяца игре
Закружились бесы разны,
Будто листья в ноябре...
Сколько их! куда их гонят?
Что так жалобно поют?
Домового ли хоронят,
Ведьму ль замуж выдают?..
Старый Бес и бесенок появляются также в «Сказке о попе и о работнике его Балде», которую, кстати, Пушкин так и не закончил, наметив план того, как Балда попадает к царю и спасает его дочь, одержимую бесом. В «Сказке о Медведихе» мужик рогатиной вспорол брюхо Медведихи, забрал домой трех медвежат, заставив горевать «вдовца горемычного» медведя. Тема смерти явно звучит и в «Гробовщике», где герой повести Адриян Прохоров зовет на свое новоселье «мертвецов православных», а те приходят к нему в гости, но только во сне. В «Станционном смотрителе» главный герой повести умирает после того, как его дочь сбежала с гусаром, а он спивается в отчаянии от этого. В повести «Выстрел», в основе которой лежит дуэльная история, ее герой Сильвио погибает в конце повествования во время греческого восстания. «Скупой рыцарь» завершает сцена смерти Барона, вызывающая заключительные слова Герцога: «Он умер. Боже! / Ужасный век, ужасные сердца!» (Как будто поэт говорит о нашем, XXI веке!). И прекрасно известно, что коварное отравление Моцарта ядом, брошенным в стакан Сальери, составляет главный стержень известной трагедии Пушкина («Гений и злодейство / Две вещи несовместные»). А статуя командора является в «Каменном госте» перед Доном Гуаном, и «пожатье каменной десницы» становится местью за грехи последнего: «Я гибну – кончено – о Дона Анна!»
В уже цитировавшихся «Дорожных жалобах» поэт вообще много раз предполагает, как ему суждено будет погибнуть: «На большой мне, знать, дороге / Умереть господь судил…» И не мудрено, что он мечтает оказаться в Москве, как бы призывая нас сегодняшних «сидеть дома», или другими словами, самоизолироваться:

То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!
То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошел же, погоняй!..
Даже в любовной лирике болдинской осени, наполненной печальными мотивами, то и дело сквозит тема смерти. Так, в «Прощании» поэт «в последний раз» прощаясь, вероятнее всего, с «милым образом» Елизаветы Воронцовой, выражает свою горечь, вспомнив о своем заточении:
Бегут, меняясь наши лета,
Меняя всё, меняя нас.
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.
Как видим, мрачные настроения, да еще с налетом смертельного ореола, то и дело проявлялись у поэта в болдинские дни, но Пушкин не был бы Пушкиным, если бы не находил и в тех гнетущих обстоятельствах лучи света и надежды, а также поводы для стойкости, веселости и даже озорства, как он это сделал в поэме «Домик в Коломне», в своих сказках и в письмах к друзьям. Знаковым здесь можно считать гениальное стихотворение «Элегия», в котором поэт, несмотря на «угасшее веселье», печаль, «унылый путь» и горе, верит в будущее:
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
Пушкин в этом стихотворении провидчески увидел свой дальнейший жизненный путь, в котором труд, горести, заботы и треволненья будут соседствовать и с наслажденьями, и с творческой гармонией, и главное – с любовью! Поэту еще рано было умирать, не сделав того, что предназначено судьбой, и он откровенно говорит о своем желании жить и о смысле человеческого бытия: «мыслить и страдать». В черновиках было: «и мечтать…» Но поэт сделал важную замену, понимая, что в страданиях скрыта тайна жизни.
Поэт не верил в счастье («На свете счастья нет…») и в письме к П.А. Осиповой из Болдино прямо признавался: «В вопросе счастья я атеист; я не верю в него». Но он все равно в глубине души ждал этого счастья и надеялся, что его улыбка все-таки блеснет ему на склоне лет, потому то он и добивался так яростно своей свадьбы. И искомое счастье в оставшиеся годы, без сомнения, ему улыбнулось, хотя, может быть, и не в такой степени, как этого хотелось, и не в том обличии, как это рисовалось ранее. Не случайно же тотчас после свадьбы у Пушкина вырвалось: «Одно желание мое, чтоб ничего в жизни моей не изменилось…»
Побег из Болдино

В Болдино поэт искал для себя опору не только в творчестве и надежде на улыбку судьбы, но и в обращении к истории своего Отечества, что явно проявилось и в последних главах «Евгения Онегина», в том числе в десятой, и в обращении поэта к его родословной, и в выведенной поэтом формуле патриотизма:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня !
Земля была б без них мертва,
Как ....... пустыня
И как алтарь без божества.
Любопытно, что в черновиках этого стихотворения Пушкиным были зачеркнуты такие слова и строки: «Они священны человеку… И ты к отечеству любовь… Святыня… Семья…» В рукописи осталось и зачеркнутое автором четверостишие, продолжавшее размышление о «двух чувствах»:
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
«Самостоянье человека», его свобода, достоинство и независимость всегда были жизненный идеалом поэта, и он не мог не выразить еще раз свои пристрастия на болдинском переломе судьбы.
Завершив в Болдино «Путешествие Онегина», в котором его герой странствует именно по родным просторам, а не по заграницам, Пушкин, потерявший уже надежду на свои собственные путешествия в дальние страны, делает знаменательный поворот в своем давнем стремлении к побегу: теперь уже не за океаны и моря, а в северные русские дали, что впоследствии отразится на многих его произведениях. А в болдинском заточении поэт в стихотворении «Когда порой воспоминанье…» откровенно признается, куда он стремится:
Стремлюсь привычною мечтою
К студеным северным волнам.
Меж белоглавой их толпою
Открытый остров вижу там.
Печальный остров — берег дикий
Усеян зимнею брусникой,
Увядшей тундрою покрыт
И хладной пеною подмыт.
Заметим, что поэт хочет бежать не в теплую Италию с мрамором, кипарисами и скалами, а в дикие зимние края, под которыми, по мнению пушкинистов, поэт скрывал или Соловецкие острова, или остров Голодай на окраине Петербурга, где были захоронены тела декабристов. В любом случае тяга к родной земле возрастала у Пушкина в последние годы его жизни.
Пушкину в Болдино в октябре 1830 г. приходилось не раз опровергать в своей переписке слух, что он «холерой схвачен или зачах в карантине». Его больше всего тревожила неизвестность, где же его невеста? Успела ли она с семьей покинуть Москву? А писем от нее все не было и не было. Пушкин готовился даже получать уже знакомые ему по чумному карантину в Гумрах проколотые для окуривания хлором или известью письма: «В чумное время дело другое; рад письму проколотому; знаешь, что по крайней мере жив, и то хорошо».

Только 26-27 октября из пришедшего от Натальи Николаевны письма он узнал, что Гончаровым пришлось пережидать эпидемию в самой Москве. И вскоре, 9 ноября, Пушкин решается на новый побег из карантина, он пересекает всю Нижегородскую губернию и около Мурома въезжает во Владимирскую губернию, где его около деревни Севастлейки задерживают в карантине и отправляют назад. Поэт едет в Лукоянов и требует свидетельства, что он следует не из зачумленного места, и подорожную до Москвы, но получает отказ. Он пишет жалобу губернатору в Нижний Новгород и возвращается в Болдино, проехав почти 420 верст и потеряв несколько дней на это путешествие. И вскоре опять признает необходимость «самоизоляции»: «…Я не стану больше торопиться; пусть все идет своим чередом, я буду сидеть сложа руки».
Наконец, 27 или 28 ноября Пушкин все-таки получает из Нижнего Новгорода свидетельство на проезд до Москвы, и 29 ноября туда выезжает. Однако 1 декабря в деревне Платав (ныне деревня Плотава Орехово-Зуевского района Московской области), в 70 верстах от Москвы, поэт был остановлен. «Я задержан в карантине в Платаве: меня не пропускают, потому что я еду на перекладной; ибо карета моя сломалась, - писал он невесте. - Умоляю вас сообщить о моем печальном положении князю Дмитрию Голицыну (генерал-губернатору Москвы. – С.Д.) — и просить его употребить все свое влияние для разрешения мне въезда в Москву… Или же пришлите мне карету или коляску…». И Пушкину повезло: вместо 14 дней, благодаря чьему-то вмешательству, он пробыл в карантине только 3 дня (также как и в Гумрах в 1829 г.) и уже 5 декабря добрался до белокаменной. Болдинская осень подошла к концу…
Однако эпидемия холеры в России еще продолжалась. Затихнув в декабре, весной 1831 г. с наступлением теплых дней она вновь вернулась в Москву, но в более скромных масштабах. Ее распространение перекинулось тогда на запад, в Петербург и Польшу, а оттуда и в Европу. И Пушкин, который, по его собственным словам, после Болдина «оброс бакенбардами, остригся под гребешок — остепенился, обрюзг — но это еще ничего — я сговорен… и женюсь», вступал в новую полосу своей судьбы. И поэт передал нам из того времени еще один – четвертый - совет, как выживать во время эпидемий. Он писал Е.М. Хитрово 9 декабря, сразу после возвращения в столицу: «Россия нуждается в покое. Я только что проехал по ней… Народ подавлен и раздражен. 1830-й год — печальный год для нас! Будем надеяться — всегда хорошо питать надежду».
Надеяться! – вот главный завет поэта, переданный им нам через века и годы. И хотя 2020, високосный, год мы тоже можем назвать «печальным годом», его испытания рано или поздно завершатся, и мы будем потом вспоминать о нем, как о частице прошлого…
После Болдинских дней

18 января 1831 г., через полтора месяца после возвращения в Москву, Пушкин, узнав о смерти своего друга А.И. Дельвига, которую он перенес очень тяжело («вот первая смерть мной оплаканная… никто на свете не был мне ближе Дельвига»), констатировал: «Нечего делать! Согласимся. Покойник Дельвиг. Быть так. Баратынский болен с огорчения. Меня не так легко с ног свалить. Будь здоров – и постараемся быть живы».
Постараемся быть живы! – вот еще один завет Пушкина.
В июле 1831 г., когда холера вновь сильно проявила себя, особенно в Петербурге, Пушкин в письме к другу Плетневу, утешая того после смерти Дельвига и его близкого приятеля Молчанова, сказал, пожалуй, свои главные слова об отношении к напастям эпидемий: «Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрет и Жуковский, умрем и мы.
Но жизнь все еще богата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жены наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо.
Вздор, душа моя; не хандри – холера на днях пройдет, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы».
Не хандрить! Коронавирус «на днях пройдет», будем и «мы живы и веселы»! Эти слова следовало бы адресовать сегодня миллионам россиян. И чем является этот призыв, как не важным лекарством при любых инфекционных напастях?
А в 1831 г. центр холерной эпидемии переместился из Москвы в Санкт-Петербург, где первые признаки холеры проявились еще в апреле 1831 г., вызвав в отличие от Москвы в предыдущем году сильную панику. Коварность болезни и ее ужасные симптомы породили поверье, что люди заболевают и умирают вследствие отравлений, в которых замешаны доктора и полиция. А в связи с тем, что появление холеры совпало по времени с польским восстанием, многие приписывали отравления проискам поляков, посыпавших якобы ядом посадки овощей и воду. Толпы людей начали бродить по улицам и избивать тех, кто казался им отравителями. Во время вспыхнувшего в июне 1831 г. в Петербурге холерного бунта на Сенной площади была разорена расположенная там больница, а несколько медиков и полицейских были убиты. Почти трое суток бунтовавшие делали в городе то, что хотели. На Сенную площадь пришлось вывести войска, и вновь народ успокоило лишь появление самого императора Николая I, снова проявившего себя героем, как это было в Москве в октябре 1830 г. Тогда император предотвратил распространение в городе паники и хаоса, он лично проверял соблюдение противохолерных мер и организацию лечения заболевших. «Государь сам наблюдал, как по его приказаниям устраивались больницы в разных частях города, отдавал повеления о снабжении Москвы жизненными потребностями, о денежных вспомоществованиях неимущим, об учреждении приютов для детей, у которых болезнь похитила родителей, беспрестанно показывался на улицах; посещал холерные палаты в госпиталях», - вспоминал позднее А.Х.Бенкендорф. Император даже обходил торговые ряды, убеждая купцов не торговать фруктами и плодами, которые могли быть заражены.

Усмирение холерного бунта. Барельеф памятника Николаю I на Исаакиевской площади
Мужественное поведение императора вызвало горячее одобрение подданных, в том числе поэтов. Не обошел стороной эту тему и Пушкин, написавший в Болдино стихотворение «Герой», которое автор специально подписал: «29 сентября 1830 года. Москва», хотя написал он его месяцем позже. Поэт сравнивал, по сути, легендарное посещение Наполеоном чумного госпиталя в Яффе с приездом в Москву Николая I, утверждая позднее, что «великодушное посещение государя воодушевило Москву, но он не мог быть одновременно во всех 16-ти зараженных губерниях».
А завершил Пушкин свой стих, по сути, провозгласивший императора Николая I «другом неба» и героем, известной сентенцией о природе власти:
Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман…
Оставь герою сердце! Что же
Он будет без него? Тиран…
Вот тебе и Николай Палкин! Мы видим здесь совсем иной портрет во многом оболганного в нашей истории императора, к которому Пушкин относился и с уважением, и с добрыми чувствами за его дела на благо страны, многих людей и за помощь самому поэту. В начале ноября 1830 г. Пушкин в письме к П.А. Вяземскому еще раз скажет о подвиге Николая I: «Каков государь? Молодец! Того и гляди, что наших каторжников простит…» А 24 февраля 1831 г. в письме к Плетневу, похвалив государя за благодеяние по отношению к Н.И. Гнедичу, автору перевода гомеровской «Илиады», Пушкин напишет: «Оно делает честь Государю, которого искренне люблю, и за которого всегда радуюсь, когда поступает он «умно и по-царски».
После ослабления холеры в Петербурге в 1831 г. она проявила себя в Финляндии и дошла в итоге через всю Европу до Лондона. О размахе страшной эпидемии, прокатившейся по России, свидетельствуют громкие имена её жертв даже среди самых высших слоёв общества: несостоявшийся император Константин Павлович, знаменитый аристократ Н. Б. Юсупов, бывший московский генерал-губернатор Ю. В. Долгоруков и бывший министр внутренних дел В. С. Ланской, генерал-фельдмаршал И. И. Дибич, командовавший тогда действующей армией. Кроме того умерли живописец Александр Иванов, балерина Авдотья Истомина, художник-декоратор Пьетро Гонзаго, архитектор Карл Росси, пианистка Мария Шимановская, славянофил Иван Киреевский, герои Отечественной войны 1812 г. Александр Ланжерон и Василий Костенецкий, мореплаватели Василий Головнин и Гаврила Сарычев. По официальным данным министерства внутренних дел, из 466 457 заболевших холерой в целом в России умерло 197 069 человек, а в Москве погибло 4 846 человек, то есть только 2 процента всех умерших.
В 1831 г. Пушкин продолжал внимательно следить за ситуацией с распространением в стране холеры, становясь постепенно знатоком этой темы, в том числе и в экономическом аспекте. Так, он занес в свою записную книжку: «Покамест полагали, что холера прилипчива, как чума, до тех пор карантины были зло необходимое. Но коль скоро начали все замечать, что холера находится в воздухе, то карантины должны были тотчас быть уничтожены… В прошлом году карантины остановили всю промышленность, заградили путь обозам, привели в нищету подрядчиков и извозчиков, прекратили доходы крестьян и помещиков и чуть не взбунтовали 16 губерний». В другом месте Пушкин писал уже скорее как социолог и историк: «Народ ропщет, не понимая строгой необходимости карантинов и предпочитая зло неизвестной заразы непривычному своему стеснению быта»…
В 1830-1831 гг. Россия пережила страшную эпидемию холеры. Но та еще не раз собирала в стране и в мире кровавую жатву. И каждый раз казалось, что речь снова идет о выживании. Почти через 18 лет после Болдинской осени В.А. Жуковский, попавший в Европе в водоворот вновь наступавшей повсюду холеры (вот тебе и спасительная Европа!), только и мечтал оказаться поскорее в России. Он писал П.А. Вяземскому 23 июля 1848 г.: «…Я кувыркаюсь в воздухе между ракетами двух холер. И при этом какое разорение для кармана. И при всех этих удовольствиях надо еще слышать и слушать вой этого всемирного вихря, составленного из разных бесчисленных криков человеческого безумия, вихря, который грозится поставить всё вверх дном…»
Вот и 2020 год начался с воя нового всемирного вихря, который опять грозится поставить всё вверх дном: теперь уже вихря коронавируса! Но Россия переживет и этот вихрь, как она переживала еще более страшные испытания. А чтобы всем нам быстрее и легче затушить этот очередной вихрь, следует обращаться к опыту прошлого и к пушкинским заветам, звучащим спасительно и мудро: коронавирус «на днях пройдет», будем и «мы живы и веселы»!

Дороги и скитания Сергея Есенина
В рамках «Поэтического тревелога» мы отправляемся в путешествие с Сергеем Есениным, 125-летие которого мы отмечаем в 2020 году. Из серии очерков историка, поэта, издателя Сергея Дмитриева мы узнаем о том, куда забрасывала жизнь русского поэта и как эти скитания отразились на его творчестве.
Глава 1. С рязанских раздолий до Москвы

О Сергее Есенине, 125-летний юбилей которого мы будем праздновать 3 октября 2020 г., написаны горы статей и книг. Однако из оценок великого русского поэта часто выпадает скитальческая ипостась его судьбы. Так получилось, что 30 с небольшим лет, которые были отпущены Есенину на белом свете, почти поровну делятся между родным селом поэта Константиново и всеми другими местами его скитаний. Поэт часто называл себя странником, бродягой, «путником, в лазурь уходящим», писал, что «все мы бездомники», что «в этом мире я только прохожий», и старался, по возможности, путешествовать, «шататься», как он иногда говорил, хотя в то смутное время войн и революций это было совсем не просто. Поэт, который хотел «концы земли измерить», в своём итоговом стихотворении «Мой путь» (1925) признавался:
И, заболев писательскою скукой,
Пошёл скитаться я
Средь разных стран,
Не веря встречам,
Не томясь разлукой,
Считая мир весь за обман.
Константиново, когда в 1895 г. в нем родился Сергей Есенин, было большим селом, в котором насчитывалось около 700 домов. И именно здесь поэт прожил безвыездно около 14 лет, когда 26 августа 1909 г. уехал в Спас-Клепики учиться во второклассной учительской школе, откуда около десяти раз ездил в Константиново на каникулы, где провел за эти приезды еще около 9 месяцев. К отъезду в Москву в конце июля 1912 г. Есенин прожил в Константиново уже 14 лет и 8 месяцев. Затем поэт приезжал туда до осени 1925 г. (он не был там вообще только в 1919, 1921-1923 гг.) не менее 17 раз и провел в эти приезды в селе еще более 1 года и 3 месяцев.
Получается, что всего в Константиново Есенин прожил почти ровно 16 лет, а вне родного села немного меньше – 14 лет 3 месяца: в Спас-Клепиках – 2 года, в Москве – около 6 лет, в Петрограде – чуть менее 2 лет, в Царском Селе около полугода, в разъездах, путешествиях по России и миру поэт провел в итоге более 4 лет.
Когда стоишь на склонах речного откоса в Константиново и видишь несравненную красоту и ширь, понимаешь, что «самый русский поэт» совсем не случайно родился и вырос именно в этих местах, на берегу «самой русской реки» — Оки. Его Малая Родина, «рязанские раздолья», всю жизнь питали его творчество живыми соками. В этом разгадка того, как появляются на свет поэтические гении. Я впервые попал в Константиново 15 лет назад в дни 110 летия поэта и сразу почувствовал ту силу, которая исходит от родной земли поэта:

Поэты рождаются там,
Где склоны речного откоса
Открыты суровым ветрам,
Где падают по утрам
На травы небесные росы.
Детство Сергея было совсем нелегким, его можно даже назвать сиротским, ведь родители поэта — Александр Никитич и Татьяна Федоровна жили врозь в Москве и Рязани, а поэт сначала долго жил с дедушкой и бабушкой по материнской линии — Федором Андреевичем и Натальей Евтеевной Титовыми. Они оказали на Есенина огромное влияние. Как вспоминал сам поэт, «детство прошло среди полей и степей. Рос под призором бабки и деда», которые его сильно любили. «Стихи начал слагать рано. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки», — признавался Сергей. У него были бурные и насыщенные детские годы: то он «заменял для дяди охотничью собаку, плавая за подстреленными утками», то прекрасно лазил по деревьям, то постоянно рыбачил и купался с мальчишками, то жил с крестьянами в шалашах на луговых сенокосах, то убегал в ночное с лошадьми. А еще Сергей любил смотреть на проплывавшие по Оке пароходы, и не отсюда ли у него появились мечты о путешествиях! «Средь мальчишек, — писал он, — я всегда был коноводом и большим драчуном и ходил всегда в царапинах».
Если побывать в доме родителей поэта, то можно еще раз убедиться, как скромно жили они и их дети, в том числе и тогда, когда мать поэта вернулась в семью и у Сергея появились сестры Екатерина и Александра. Комнатка поэта была совсем крохотной, без всяких излишеств, но как же любил свой дом поэт, говоривший: «Низкий дом с голубыми ставнями, / Не забыть мне тебя никогда…». И как же поэт любил свою Родину, если он умел так емко выразить свои чувства:
О Русь, малиновое поле
И синь, упавшая в реку,
Люблю до радости и боли
Твою озёрную тоску.

Любопытно, что Есенин начал свои пути-дороги именно со станции Дивово железной дороги между Москвой и Рязанью неподалеку от Константинова, куда ему приходилось не единожды возвращаться. Иногда поезд на станции только притормаживал, и поэту нужно было с вещами прыгать на ходу. Старое здание станции сгорело во время войны в 1941 г., нет уже кругом и ямщиков, но дух странствий здесь все равно присутствует, а памятник и уголок Есенина на станции напоминают о важности этого места в биографии «рязанского соловья». Проселочная дорога до Дивово, которой не раз хаживал Есенин, олицетворяет его скитальческую жизнь, и не на ней ли у поэта родились такие проникновенные строки:
Глядя за кольца лычных прясел,
Я говорю с самим собой:
Счастлив, кто жизнь свою украсил
Бродяжной палкой и сумой.
С детских лет поэт рос в православной среде. Церковь Казанской Иконы Божьей матери стала не только местом, где его крестили, но и местом, где он часто бывал на службах, в том числе в качестве помощника священника отца Иоанна Смирнова, служившего при храме долгие 50 лет. Отец Иоанн не только разрешал Сергею звонить в колокола на церковной колокольне, особенно в праздник Пасхи, но и приобщал его к литературе, разрешая пользоваться его библиотекой. Впоследствии Сергей не прерывал отношений с отцом Иоанном, преподнося ему свои книги.
Паломничества Есенину приходилось переживать с раннего детства. «Первые мои воспоминания, — напишет он в 1924 г., — относятся к тому времени, когда мне было три-четыре года. Помню: лес, большая канавистая дорога. Бабушка идет в Радовецкий монастырь… Я, ухватившись за ее палку, еле волочу от усталости ноги, а бабушка все приговаривает: „Иди, ягодка, Бог счастье даст“». Кроме Николо-Радовицкого монастыря XVI века в селе Радовицы Егорьевского уезда, примерно в 40 километрах от Константинова, где находился уникальный целительный резной образ святителя Николая-чудотворца, Есенин часто посещал Иоанно-Богословсий монастырь в селе Пощупово, возникший еще в XIII веке и известный чудотворным образом Иоанна Богослова. Он находится примерно в 12 километрах от Константинова, и сюда уже в юном возрасте поэт совершал пешие паломничества.

И хотя Есенин позднее говорил, что он «в Бога верил мало», православный дух сопровождал его всю жизнь. И кто еще из русских поэтов сумел вот так гармонично соединить в стихах и трепетное отношение к родной природе, и христианские чувства:
Не за песни весны над равниною
Дорога мне зеленая ширь —
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь.
Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,
Поклониться любви и кресту.
Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом спасителя
За погибшую душу мою.
Осенью 1904 г., в возрасте 9 лет, Есенин начал учиться в Константиновском земском народном училище, но ему пришлось проучиться в нем с повторным обучением в 3 м классе из-за плохого поведения не четыре года, а 5 лет. Само попадание поэта в школу уже было огромным достижением, ведь в те годы никакого всеобщего образования не было. А тем более, что учится в школе, где преподавались кроме чтения, письма, арифметики, русская история, география и Закон Божий, было крайне сложно. Достаточно сказать, что из 38 мальчиков, поступивших в школу вместе с поэтом, полный курс ее окончили только четверо, в том числе Есенин. Да еще он окончил ее с похвальным листом «за хорошие успехи и отличное поведение».

Из-за нехватки помещений в каждом из двух кабинетов занимались по 2 класса одновременно. Писали главным образом на грифельных досках, тетради предназначались только для контрольных работ. Именно в школе, в 1907—1908 гг., Сергей начал писать первые ученические стихи, и почти все они были поначалу или духовными стихами, или стихами о природе. И очень важно, что именно в школе Есенин по-настоящему полюбил книги, которые и позволили ему стать в итоге мастером поэзии. В последнем классе у него была уже масса прочитанных книг. «Если он у кого-нибудь увидит еще не читанную им книгу, то никогда не отступится. Обманет — так обманет, за конфеты — так за конфеты, но все же выманит», - вспоминали о нем одноклассники.
Поворотом в судьбе Есенина стало решение на семейном совете отправить его учиться Спас-Клепиковскую второклассную учительскую школу, которая была одним из немногих учебных заведений, в котором, лишь оплачивая проживание в общежитии, можно было продолжить учебу. И вот на этой развилке началась скитальческая судьба поэта, вынужденного покинуть родной дом, хотя три года — с 1909 по 1912 гг. — обучения пролетели быстро, и поэт часто приезжал на каникулы в Константиново.
Собирали поэта в дорогу всем семейством, мать нашила Сергею обновок, которые уложили в маленький сундучок, который станет надолго спутником поэта. Любопытно, что село Спас-Клепики было тогда даже меньше Константинова, в нем числилось лишь 92 двора. Есенина готовили в учителя грамоты, и это не могло не помочь ему в накоплении культурного багажа, ведь в школе изучали, помимо Закона Божьего и церковной истории, русский язык, чистописание, церковно-славянский язык, географию, арифметику, черчение и рисование. Жили и учились дети в спартанских условиях. Ученики всех классов размещались в одной комнате, где около 40 коек, сделанных из железа, стояли рядами. Все ученики в субботу и воскресенье ходили в церковь, они знали церковные каноны, батюшка им всегда говорил: «Пригодится, а может, кто из вас пойдет в священники».
Учитель словесности Евгений Михайлович Хитров вспоминал, что Есенин писал стихи уже в первые месяцы учебы в школе, и делал он это быстро и легко. Во время чтения в ходе занятий классики не было такого жадного слушателя, как Есенин, он глотал каждое слово.
«Стихи я начал писать рано, лет девяти, но сознательное творчество отношу к 16—17 годам. Некоторые стихи этих лет помещены в „Радунице“», — так вспоминал Есенин свои первые шаги в поэзии.
Получается, что именно в Спас-Клепиках он состоялся как настоящий поэт. «Выткался на озере алый свет зари, / На бору со звонами плачут глухари». Или: «Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло. / Только мне не плачется — на душе светло». Эти стихи известны нам с детства, а написаны они были в скромных Спас-Клепиках. В июне 1912 г. Есенин получил свидетельство об окончании школы, причем отличные оценки он заслужил по русскому языку, истории и географии. Ему открывалась учительская стезя, но жизнь распорядилась вскоре совсем по-другому. На жизненном пути поэта вырастала Москва…
Глава 2. По российским далям и просторам
В июле 1912 г. 16 летний Сергей Есенин приехал в Москву к отцу Александру Никитичу, который почти 30 лет проработал мясником и приказчиком у купца Крылова, имевшего в Строченовском переулке четыре деревянных строения, в которых жили его работники и располагалась мясная, овощная лавка и харчевня. Сейчас осталось только одно здание, в котором и поселился поначалу поэт у отца в квартире № 6, позднее же он был прописан в соседнем здании купца Крылова.
По желанию родных Есенин должен был поступить в Московский учительский институт, и до осени отец устроил сына на работу в контору купца Крылова. Однако поэту сразу не понравилась такая работа, прежде всего, подчинение хозяевам. Поэт не только уволился из конторы, но и отказался поступать в институт, считая, что он должен писать стихи, а не зубрить науки. Сергей поссорился с отцом и начал свои квартирные скитания, всю жизнь не имея своего постоянного места жительства. Достаточно сказать, что в Москве, где в целом поэт прожил около 6 лет, можно насчитать около 30 мест, где то или иное время проживал поэт. «Эх, теперь, вероятно, ничего мне не видать родного. Ну что ж! Я отвоевал свою свободу», — так высказался в то время поэт, понимавший, что он отрывается от родных мест.
Есенин не пошел в учителя, но его выручила в то время страстная любовь к книгам. Поэт так «прирос» к ним, что не нашел ничего лучше, чем стать «книжником» на период почти в полтора года. Сначала пойти работать продавцом в книжную лавку, в том числе для того, чтобы быть в курсе всех новинок литературного мира, потом стать экспедитором в типографии Сытина и, наконец, подчитчиком или корректором в двух издательствах. Крестьянский мальчишка через книги вошел в культурную жизнь Москвы, причем чуть позднее он начал посещать лекции в народном университете имени Шанявского и занятия в Суриковском литературно-музыкальном кружке, стремясь продолжить свое образование.
В Москве по адресу Малая Дмитровка, 1 в доме Коровкина находилась книжная лавка товарищества «Культура», где полгода с августа 1912 года продавцом проработал Есенин. Удивительно, что это всего лишь в двух шагах от так называемого дома Фамусова (усадьба Римских-Корсаковых), где по легенде происходило действие «Горя от ума» А. Грибоедова, и совсем рядом с местом, где стоял (напротив нынешнего местоположения) памятник Пушкину. Напротив дома, где работал Есенин, был Страстной монастырь, стены которого позднее, в мае 1919 г., он расписал вместе с имажинистами стихами и лозунгами. Так получилось, что именно в районе Тверского бульвара поэту пришлось долго и жить, и работать. В «Москве кабацкой» Есенин не зря восклицал:

Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою легкую походку.
6 июня 1924 г. в день 125 летнего юбилея Пушкина Есенин прочитал у памятника поэту на Тверском бульваре свои знаменитые стихи, связавшие его с автором «Евгения Онегина», и он еще не мог знать, что всего лишь через полтора года на его собственных похоронах его трижды пронесут вокруг этого же памятника:
Мечтая о могучем даре
Того, кто русской стал судьбой,
Стою я на Тверском бульваре,
Стою и говорю с собой…
А я стою, как пред причастьем,
И говорю в ответ тебе:
Я умер бы сейчас от счастья,
Сподобленный такой судьбе.
Но, обреченный на гоненье,
Еще я долго буду петь...
Чтоб и мое степное пенье
Сумело бронзой прозвенеть.
И хотя Есенин ошибся: ему оставалось петь тогда совсем не долго, «бронзой прозвенеть» ему все-таки удалось. Если прогуляться от памятника Пушкину дальше по Тверскому бульвару, то там находится выразительный памятник Есенину скульптора А.Бичукова, созданный к 100 летию поэта. И поставлен он здесь был не случайно. Не так далеко от этого места по адресу Тверская, 37 находилось ранее поэтическое кафе-клуб «Стойло Пегаса», где много раз бывал Есенин, а поблизости от памятника по адресу Богословский пер., д.3 поэт проживал трижды в 1919, начале и конце 1920 г. вместе со своим другом Анатолием Мариенгофом, причем в разных квартирах. В это время поэт писал отцу, что у него все нормально, «только вот никак не могу устроиться с квартирой».
Если же вернутся в Москву дореволюционную, то следует вспомнить, что, работая корректором в типографии Сытина, в начале 1914 г. поэт вступил в гражданский брак с Анной Изрядновой, работавшей там же, и у них в январе 1915 г. родился сын Юрий. А в марте 1915 г. Есенин впервые поехал в Петроград, встретился там с известными поэтами, в том числе с А. Блоком. После призыва в армию 25 марта 1916 г. и нахождения в целом около полугода в Царском Селе (не считая поездок того времени) в составе Царскосельского военно-санитарного поезда, Есенин стал часто бывать в Петрограде, где прожил впоследствии около двух лет и влился в атмосферу Серебряного века.
Настоящим путешественником Есенин стал в июле 1914 г., когда он две недели провел в Крыму, посетив Севастополь и Ялту. А служба санитаром военно-санитарного поезда, постоянно курсировавшего на фронты Первой мировой войны и обратно, открыла для него западные районы Российской империи.
Вот впечатляющие маршруты движения поэта с конца апреля по 19 июля 1916 г., показывающие обширную географию его странствий: Петроград-Москва-Белгород-Харьков-Евпатория-Севастополь-Симферополь-Полтава-Киев-Ровно-Гомель-Царское Село-Брянск-Киев-Жмеринка-Конотоп-Курск-Царское Село-Москва-Петроград-Вологда-Петроград.
С конца июля по 15 августа 1917 г. Есенин совершил увлекательную поездку по Северу России, и увидел запоминающиеся места: Вологда-Архангельск-Кандалакша-Кемь-Соловки-Петроград. Эта поездка запомнилась тем, что 4 августа под Вологдой состоялось венчание поэта с его женой Зинаидой Райх. Далее на фоне развертывавшихся революционных событий последовали новые поездки:
конец августа 1917 г. – Орел; конец ноября 1918 г. – Тула; конец мая – начало июня 1919 г. - Дубровки, Тверская губерния, июнь-август 1919 г. – Пенза; 16-23 июля 1919 г.– Киев; 23 марта - 28 апреля 1920 г. – Харьков; 8 июля – 19 сентября 1920 г. – поездка на Северный Кавказ и в Закавказье: Ростов-на-Дону-Таганрог-Новочеркасск-Тихорецк-Пятигорск-Ессентуки-Кисловодск-Минводы-Махачкала-Дербент-Баку-Тифлис-Баку-Москва; 16 апреля - 11 июня 1921 г. – поездка из Москвы в Туркестан по маршруту: Самара-Бузулук-Оренбург-Казалинск-Кзыл-Орда-Ташкент-Самарканд-Актюбинск-Москва; июнь-август 1921 г. – недолгое путешествие по Новгородской губернии для сбора фольклора и сказок.
Все эти 12 поездок длились около 9 месяцев, и они не могли не повлиять на поэтическое творчество поэта, расширившего свои горизонты многократно. Еще в 1915 г. в его стихах зазвучало пространственное видение необъятной России:
В том краю, где желтая крапива
И сухой плетень,
Приютились к вербам сиротливо
Избы деревень.
Там в полях, за синей гущей лога,
В зелени озер,
Пролегла песчаная дорога
До сибирских гор.
Затерялась Русь в Мордве и Чуди,
Нипочем ей страх.
И идут по той дороге люди,
Люди в кандалах.
Поэт уже был готов увидеть иные, все новые и новые пространства:
Устал я жить в родном краю
В тоске по гречневым просторам,
Покину хижину мою,
Уйду бродягою и вором.
Пойду по белым кудрям дня
Искать убогое жилище.
И друг любимый на меня
Наточит нож за голенище. (1916)
В то время Есенин начинает изображать себя странником, бродящим по просторам Руси и вопрошающим, «где ты, где ты, отчий дом»:
О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь.
С иными именами
Встает иная степь…
А там, за взгорьем смолым
Иду, тропу тая,
Кудрявый и веселый,
Такой разбойный я.
Долга, крута дорога,
Несчетны склоны гор;
Но даже с тайной Бога
Веду я тайно спор. (1917)
И, наконец, поэт, утверждавший: «Я покинул родимый дом, / Голубую покинул Русь», «Я не скоро, не скоро вернусь», начал уже вовсю представлять себя бродягой:
Нет любви ни к деревне, ни к городу,
Как же смог ее донести?
Брошу все. Отпущу себе бороду
И бродягой пойду по Руси.
Позабуду поэмы и книги,
Перекину за плечи суму,
Оттого что в полях забулдыге
Ветер больше поет, чем кому. (1922)
Поэт проехал множество мест, но вот что удивительно: эти странствия дарили ему духовную пищу для воспевания Руси-России в целом и постоянно возвращали к описанию родных «рязанских раздолий», а вот поэтических описаний конкретных мест, увиденных в дороге, Есенин почти не оставил, если не считать упоминания Дона ( «Не белы снега по-над Доном / Заметали степь синим звоном», Украины и Днепра (перевод стихотворения Т.Шевченко: «Село, в душе моей покой. / Село в Украйне дорогой») и чудес Русского Севера:
Небо ли такое белое
Или солью выцвела вода?
Ты поешь, и песня оголтелая
Бреговые вяжет повода…
Не встревожен ласкою угрюмою
Загорелый взмах твоей руки.
Все равно – Архангельском иль Умбою
Проплывать тебе на Соловки. (1917)
Однако, как это ни странно, такую «негеографическую» особенность творчества поэта изменят его путешествия на Восток в последние годы жизни. Они подарят Есенину невиданное вдохновение и целое ожерелье шедевров с местным колоритом, о чем рассказ еще впереди…
Глава 3. Большое заграничное путешествие

1922-й год стал для Есенина поворотным. Его настроения в этот период были отнюдь не радужными. 6 марта он писал о своей жизни в Москве Р.В. Иванову-Разумнику: «Устал я от всего дьявольски! Хочется куда-нибудь уехать, да и уехать некуда… Живу я как-то по-бивуачному, без приюта и без пристанища…» И 10 мая 1922 г. поэт, сразу после заключения брака с Айседорой Дункан, вылетает с ней на самолёте в Германию, в Кенигсберг. Так началось большое заграничное путешествие Есенина, которое продлилось до 3 августа 1923 г., то есть оно заняло около 450 дней. Одно перечисление стран и мест с указанием времени пребывания там поэта впечатляет.
Проездом на пути туда и обратно поэт проехал 4 страны: 1. Литва (Каунас, Вильнюс). 2. Польша (Гданьск, Витебск). 3. Латвия (Рига). 4. Великобритания (Плимут – 2 остановки во время плавания на корабле через Атлантику). А останавливался и жил поэт в 5 странах: 1. Германия (более 4 месяцев, 11 городов, в том числе Берлин, Кельн, Лейпциг, Франкфурт). 2. Франция (3 месяца и 10 дней, 5 городов, в том числе Париж, Версаль, Страсбург). 3. Бельгия (14 дней, Брюссель). 4. Италия (14 дней, Венеция). 5. США (4 месяца, 15 городов, в том числе Нью-Йорк, Бостон, Чикаго).
Получается, что Есенин увидел 9 стран только во время своего большого путешествия, а если мы добавим сюда другие страны, которые ему пришлось в другое время посещать или проезжать, имея ввиду современную карту мира, то к этому списку надо добавить Беларусь (Гомель, Могилев, Ровно); Казахстан (Казалинск, Актюбинск, Кзыл-Орда); Украину (Киев, Жмеринка, Запорожье, Конотоп, Харьков, Шепетовка); Узбекистан (Ташкент, Самарканд); Грузия (Тифлис, Мцхета, Батуми, Коджоры); Абхазию (Сухум); Азербайджан (Баку, Апшерон, Мардакяны, Нардярян, Раманы).
В итоге Есенин посетил 16 стран, и это впечатляющий результат для того времени, превосходящий многих собратьев поэта по стихосложению. Всего же за всю жизнь, согласно перечню мест пребывания, указанных в его «Летописи жизни и творчества», Есенин побывал в более чем 172 местах и городах мира. Из них - 90 мест России, в том числе не менее 25 крупных городов, и более 80 мест в зарубежных странах. И кто скажет при этом, что поэт не был странником?
А что же подарили Есенину дальние страны? К сожалению, ни покоя, ни вдохновения, ни счастья он за пределами Родины так и не нашел. И помешали здесь не только постоянные переезды и хлопоты, постепенное ухудшение отношений с А. Дункан, психологические срывы поэта, но и какое-то глубинное неприятие Есениным мира, который он увидел.

В своих письмах он оставил очень нелицеприятные отзывы о Европе. Вот лишь некоторые из них: «Германия? Об этом поговорим после, когда увидимся, но жизнь не здесь, а у нас. Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер. Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем… но мы не воняем так трупно, как воняют внутри они… Всё зашло в тупик. Спасёт и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы». «Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет, здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока ещё не встречал и не знаю, где им пахнет… Пусть мы нищие, пусть у нас голод… зато у нас есть душа, которую здесь сдали за ненадобностью в аренду под смердяковщину». «…Так хочется мне отсюда, из этой кошмарной Европы в Россию… Здесь такая тоска, такая бездарнейшая “северянинщина” жизни… А теперь отсюда я вижу: боже мой! до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет ещё такой страны и быть не может».
И на контрасте поэт тут же признаётся: «Вспоминаю сейчас о… Туркестане. Как всё это было прекрасно! Боже мой!» Уже в этих словах поэта ощущается его пока ещё слабая тяга к живому Востоку как альтернативе мёртвому Западу. 7 сентября 1922 г. Есенин и Дункан отправляются на пароходе из Гаврской гавани в США, где они пробудут до 4 февраля 1923 г., посетив Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Индианаполис, Кливленд, Милуоки и Детройт. Но и в Новом Свете поэт не нашёл для себя вдохновения, получив тот же результат, что и в Европе. Он открыто признавался в письме А.Б. Мариенгофу: «Милый мой Толя! Как рад я, что ты не со мной здесь в Америке, не в этом отвратительнейшем Нью-Йорке. Было бы так плохо, что хоть повеситься… Сидим без копеечки, ждём, когда соберём на дорогу и обратно в Москву. Лучше всего, что я видел в этом мире, это всё-таки Москва… О себе скажу… что я впрямь не знаю, как быть и чем жить теперь. Раньше подогревало то при всех российских лишениях, что вот, мол, «заграница», а теперь, как увидел, молю Бога не умереть душой и любовью к моему искусству».
В своей статье «Железный Миргород» (1923) поэт, описывая и восхищаясь достижениями Америки, вместе с тем подчеркивал явное бескультурье «среднего американца», для которого блага цивилизации затмевали собой духовное содержание жизни: «Сами американцы – народ тоже весьма примитивный со стороны внутренней культуры. Владычество доллара съело в них все стремления к каким-либо сложным вопросам. Американец всецело погружается в «Business» и остального знать не желает. Искусство Америки на самой низшей степени развития… Сила железобетона, громада зданий стеснили мозг американца и сузили его зрение».
После возвращения из Америки Есенин вновь жил в Париже и Берлине, пока не вернулся в августе 1923 г. в Россию. За все время пребывания за границей он написал не более 10 стихотворений, да к тому же все они были навеяны тоской поэта по России. Удивительно, что конкретно странам, которые посетил поэт, он вообще не посвящал стихов, хотя ранее, еще не побывав за границей, он писал «страноведческие» стихи, например, «Бельгия» (1914), «Польша», «Греция» (1915). А в поэме «Инония» в 1918 г. он все-таки обращался к Америке: «И тебе говорю, Америка, / Отколотая половина земли, - / Страшись по морям безверия / Железные пускать корабли». По-видимому, то, что увидел на Западе поэт с «крестьянской душой», совсем не зажгло его поэтической страсти. Есенина влекло и влекло все сильнее домой, в «рязанские раздолья».
Вспоминая в 1923 г. свой родной «низенький дом» и знакомую улицу, «годы тяжелых бедствий» и «деревенское детство», поэт представил себе сны и мечтания родного дома:
Видно, видел он дальние страны,
Сон другой и цветущей поры,
Золотые пески Афганистана
И стеклянную хмарь Бухары.
Ах, и я эти страны знаю.
Сам немалый прошел там путь.
Только ближе к родимому краю
Мне б хотелось теперь повернуть.
«Ближе к родимому краю», - такой вывод сделал поэт из своих зарубежных путешествий и признал: «Дух бродяжий, ты всё реже, реже / Расшевеливаешь пламень уст». Но его еще ждала на закате жизни пестрая восточная эпопея, которая все-таки подарит ему и вдохновение, и счастье, и покой…
Глава 4. Есенин на Востоке

В мае 1921 г. Есенин через Поволжье, где свирепствовал голод, приехал в Ташкент, и впервые в своей жизни окунулся в атмосферу Востока. До этого поэт скептически относился к искусственным, как ему казалось, «восточным мотивам» в творчестве его поэтов-друзей, включая Н. Клюева и А. Ширяевца. Однако во время пребывания Есенина в Ташкенте и посещения им Самарканда в нём что-то стало кардинально меняться. Очарование патриархального Востока вызывало новые мотивы творчества, будило фантазию и иные образы.
Исходя из этого совсем не случайным представляется, что поэт в 1924—1925 гг. трижды (в целом на срок в 9,5 месяцев) отправлялся на Кавказ, где нашёл, наконец, своё вдохновение:
3 сентября 1924 г. – 1 марта 1925 г. – поездка по маршруту – Москва-Баку-Тифлис-Баку-Тифлис-Батум-Сухум-Тифлис-Баку-Москва;
27 марта - 28 мая 1925 г. – новая поездка – Москва-Баку-Апшерон-Балаханы-Мардакяны-Баку-Москва;
25 июля – 6 сентября 1925 г. – еще одна поездка - Ростов-на-Дону-Грозный-Баку-Мардакяны-Баку-Москва.
А началось всё со знакомства Есенина в феврале 1924 г. с Петром Ивановичем Чагиным, вторым секретарём ЦК Компартии Азербайджана, работавшим с руководителем республики С.М. Кировым и главным редактором газеты «Бакинский рабочий». Тот приглашал поэта не только окунуться в восточную атмосферу Баку, но и увидеть Персию.
Есенин рвался на Кавказ не просто для отдыха и новых впечатлений, он «бежал» туда, как сам признавался, чтобы вступить в поэтическую перекличку с великими русскими поэтами, воспевавшими Кавказ.
Находясь в Батуме, поэт всё ещё чувствовал непреодолимую тоску, которую победить могла только романтика путешествий:
Корабли плывут
В Константинополь.
Поезда уходят на Москву.
От людского шума ль
Иль от скопа ль
Каждый день я чувствую
Тоску…
Каждый день я прихожу на пристань,
Провожаю всех,
Кого не жаль,
И гляжу всё тягостней
И пристальней
В очарованную даль.

И эта очарованная даль звала его именно в загадочную Персию, куда он пытался обязательно добраться. «Сижу в Тифлисе. Дожидаюсь денег из Баку и поеду в Тегеран. Первая попытка проехать через Тавриз не удалась», – писал он Г.А. Бениславской 17 октября 1924 г. И как показательно, что именно в Батуме 20 декабря 1924 г. поэт сделал очень важный для него вывод в письме к Бениславской: «Только одно во мне сейчас живёт. Я чувствую себя просветвлённым, не надо мне этой шумной глумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия. Не говорите мне необдуманных слов, что я перестал отделывать стихи. Вовсе нет. Наоборот, я сейчас к форме стал ещё более требователен. Только я пришёл к простоте… Путь мой, конечно, сейчас очень извилист. Но это прорыв. Вспомните, Галя, ведь я почти 2 года ничего не писал, когда был за границей».
Получается, что именно Восток и мечты о Персии позволили поэту сделать прорыв к вершинам поэтического мастерства. Во время пребывания на Кавказе поэту пишется легко, ведь кроме «Персидских мотивов» он написал там и такие известные стихи, как «Письмо от матери», «Ответ», Русь уходящая», «Письмо деду», «Батум», «Метель», «Мой путь», а также потрясающую поэму «Анна Снегина». И это не идет ни в какое сравнение с тем, что поэт сумел написать во время путешествий в Европу и США.
В письме к Г.А. Бениславской поэт сообщал: «Галя, милая, “Персидские мотивы” это у меня целая книга в 20 стихотворений… Я скоро завалю Вас материалом. Так много и легко пишется в жизни очень редко». Поэт в тот период многое в жизни переосмыслил: «Это просто потому, что я один и сосредоточен в себе. Говорят, я очень похорошел. Вероятно, оттого что я что-то увидел и успокоился… Назло всем не буду пить, как раньше. Буду молчалив и корректен. Вообще хочу привести всех в недоумение. Уж очень мне не нравится, как все обо мне думают».
20 января 1925 г. он вновь писал Бениславской: «Мне 1000 р. нужно будет на предмет поездки в Персию или Константинополь». Но поездка эта так и не состоялась. И поэт, вернувшись в Москву, уже скоро снова рвётся на Кавказ. «Дела мои великолепны, — писал он в письме Н.К. Вержбицкому 6 марта 1925 г., — но чувствую, что надо бежать, чтоб ещё сделать что-нибудь». И вот, прибыв опять в Баку, поэт 8 апреля снова обращается к Бениславской: «Главное в том, что я должен лететь в Тегеран. Аппараты хорошие (имеются в виду самолёты. — С.Д.). За паспорт надо платить, за аэроплан тоже… Поймите и Вы, что я еду учиться. Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все великие персидские лирики. И недаром мусульмане говорят: если он не поёт, значит, он не из Шушу, если он не пишет, значит, он не из Шираза».
Почему же всё-таки поездка Есенина в Персию так и не состоялась? Ответ на этот вопрос дают воспоминания самого П.И. Чагина: «Поехали на дачу в Мардакянах под Баку… Есенин в присутствии Сергея Мироновича Кирова неповторимо задушевно читал новые стихи из цикла “Персидские мотивы”. Киров, человек большого эстетического вкуса, в дореволюционном прошлом блестящий литератор и незаурядный литературный критик, обратился ко мне после есенинского чтения с укоризной: “Почему ты до сих пор не создал иллюзию Персии в Баку? Смотри, как написал, как будто был в Персии. В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, какие его могут подстеречь, и боясь за его жизнь. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай! Чего не хватит – довообразит. Он же поэт, да какой!” …Летом 1925 года я перевёз Есенина к себе на дачу. Это, как он сам признавал, была доподлинная иллюзия Персии – огромный сад, фонтаны и всяческие восточные затеи. Ни дать ни взять Персия».
А удивляться в Мардакянах жениху с невестой действительно было чему. Служебной дачей Чагина в этом пригородном бакинском месте была бывшая летняя резиденция нефтяного миллионера Муртазы Мухтарова с удивительной системой колодцев и бассейнов, уникальными фонтанами и архитектурными сооружениями, растениями, а также гулявшими на воле павлинами, лебедями и джейранами. И не стоит удивляться, что такая атмосфера подействовала на впечатлительного поэта.
Картину этой идиллии подтверждала и сама Софья Толстая: «Мардакяны – оазис среди степи. Все в палевых, акварельных тонах, – тоне Коктебеля. Мы часто бродим, так, куда глаза глядят. Кругом персы и тюрки. И все это настоящий прекрасный Восток. Я такого еще не видала. А самое удивительное – сады и особенно наш, самый лучший. И дом прекрасный, огромный, широкие-широкие террасы всюду кругом идут, розы ползут, деревья лезут… Книжки читаем, в карты играем. Сергей много и хорошо пишет». Вот оно счастье поэта!
Поэт, переживая крутой перелом в своей жизни, когда он фактически прощался с «голубой Русью», которая окончательно ломалась под напором революции, создал для себя как бы другой «голубой мир», мир персидских напевов, где он мог успокоить сердце и насладиться фантазиями и образами другой цивилизации. И не случайно поэт называл Персию то «весёлой страной», то «голубой родиной Фирдуси», то «шафрановым краем», то «голубой и ласковой страной».
Через весь цикл «Персидских мотивов», сравнивая два мира и две цивилизации, Есенин сквозной нитью провел чувство любви к далёкой Родине, ждущей его в свои объятия:

Тихо розы бегут по полям.
Сердцу снится страна другая.
Я спою тебе сам, дорогая,
То, что сроду не пел Хаям.
Поэт зовёт персиянку из его стихов в родные просторы:
У меня в душе звенит тальянка,
При луне собачий слышу лай.
Разве ты не хочешь, персиянка,
Увидать далекий синий край? —
и он уверен, что даже красоте Персии не сравняться с красотой русских просторов:
Потому, что я с севера, что ли,
Что луна там огромней в сто раз,
Как бы ни был красив Шираз,
Он не лучше рязанских раздолий.
В итоге поэт, восхитившись розами, коврами и красавицами Персии, увиденными им из Баку, ждёт не дождётся своего возвращения на Родину:
Мне пора обратно ехать в Русь.
Персия! Тебя ли покидаю?
Навсегда ль с тобою расстаюсь
Из любви к родимому мне краю?
В предпоследнем стихотворении цикла «Персидские мотивы» Есенин как бы подводит грустный итог своих жизненных и поэтических скитаний, понимая, что дальше искать уже нечего:
Многие видел я страны.
Счастья искал повсюду,
Только удел желанный
Больше искать не буду.
Ему, как никому другому в русской поэзии, удалось воспеть и отразить самыми пёстрыми красками мир Персии и оставить нам как завещание трогательное отношение к иным народам и культурам. После последних стихов персидского цикла, помеченных августом 1925 г., поэт написал всего лишь не более 25 стихотворений.
Устав таскаться
По чужим пределам,
Вернулся я в родимый дом.
Зеленокосая,
В юбчонке белой
Стоит береза над прудом, -
так встретила вернувшегося поэта родная природа.
Глава 5. Возвращение в Константиново и гибель
 В последние годы жизни Сергей Есенин все больше становился скитальцем и странником: из последних 3,5 лет своего жизненного пути (с мая 1922 г.) он в путешествиях и дороге, провел не менее 2 лет и 3 месяцев. И эта бесприютность не могла не сказаться на самочувствии поэта, который в 1924 г. в знаменитом стихотворении «Отговорила роща золотая…» так высказался о своей страннической судьбе, в которой ему уже ничего не было жаль: «Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник - / Пройдет, зайдет и вновь оставит дом». «Все мы бездомники», - так определял в итоге Есенин свою жизненную стезю.
В последние годы жизни Сергей Есенин все больше становился скитальцем и странником: из последних 3,5 лет своего жизненного пути (с мая 1922 г.) он в путешествиях и дороге, провел не менее 2 лет и 3 месяцев. И эта бесприютность не могла не сказаться на самочувствии поэта, который в 1924 г. в знаменитом стихотворении «Отговорила роща золотая…» так высказался о своей страннической судьбе, в которой ему уже ничего не было жаль: «Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник - / Пройдет, зайдет и вновь оставит дом». «Все мы бездомники», - так определял в итоге Есенин свою жизненную стезю.
В 1924-1925 гг. поэт, как будто предчувствуя свой уход, 6 раз приезжал в родное Константиново и провел там, в целом, более 30 дней. И то, что он там увидел, его просто потрясло. В пожаре 1922 г. сгорело почти все село, в том числе и дом родителей, и любимый клен поэта. Ему пришлось жить тогда и работать в амбаре, единственном сохранившемся с той поры в первозданном виде. Но поэту удалось посадить тогда тополь, который и сегодня украшает село своим величием. Есенин, несмотря на все беды и неустройства родных мест того времени, выразил свою любовь к ним такими звонкими словами: «Но все ж готов упасть я на колени, / Увидев вас, любимые края…»
А свой последний краткий, однодневный приезд поэта в Константиново 23 сентября 1925 г. запомнился тем, что он опять прибыл туда через станцию Дивово и завершил там стихотворение «Синий туман. Снеговое раздолье…», которое подводит итог скитаниям поэта. В нем скрыта вся «соль» его судьбы: и скитальчество, и разлука с «отчим кровом», и возвращение домой, и любовь к людям, и прощание с жизнью…

Снова вернулся я в край родимый.
Кто меня помнит? Кто позабыл?
Грустно стою я, как странник гонимый,
Старый хозяин своей избы…
Все успокоились, все там будем,
Как в этой жизни радей не радей, —
Вот почему так тянусь я к людям,
Вот почему так люблю людей.
Вот отчего я чуть-чуть не заплакал
И, улыбаясь, душой погас, —
Эту избу на крыльце с собакой
Словно я вижу в последний раз.
Любопытно, что в черновиках этого стихотворения остались такие строки поэта: «Много скитался я в разных странах // Счастье казалось живёт везде…», «Много скитался я, много бродяжил…», «Был я бесславным и был известным, // Только желанный удел не нашел», «Снова вернулся я в край родимый, // Пёс мой любимый меня позабыл…» И не чудо ли, что среди бумаг поэта после его смерти в гостинице «Англетер» 28 декабря 1925 г., сохранился плацкартный билет на последнюю поездку Есенина из Москвы до Дивово 23 сентября, за три месяца до его гибели.
В последние годы жизни печально-трагические настроения усиливались у Есенина постепенно, и даже в его жизнерадостных «Персидских мотивах» то и дело звучит струна тягостного предчувствия поэта, который понимает, что жить ему осталось совсем недолго, но ничего он с этим поделать не может. Вот эти строки: «Ну и что ж, помру себе бродягой, // На земле и это нам знакомо», «Я сегодня пью в последний раз // Ароматы, что хмельны, как брага. // И твой голос, дорогая Шага, // В этот трудный расставанья час // Слушаю в последний раз».
В том же 1924 г. поэт прямо признавался:
Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
В предпоследнем стихотворении цикла «Персидские мотивы» Есенин как бы подводит грустный итог своих жизненных и поэтических скитаний, понимая, что дальше искать уже нечего:
Многие видел я страны.
Счастья искал повсюду,
Только удел желанный
Больше искать не буду.
Весьма показательно, что отправляясь в Баку весной 1925 г., поэт, заехав к своей бывшей жене Зинаиде Райх, чтобы навестить детей, сообщил их няне, что он собирается ехать в Персию, добавив: «И там меня убьют». Поэт, несомненно, намекал на трагическую участь любимого им Грибоедова. По дороге в Баку у Есенина украли в поезде верхнюю одежду, и он в итоге простудился и заболел. Поэта положили в бакинскую больницу с диагнозом «катар правого легкого», но он сам уверял всех, что у него туберкулез горла и что жить ему осталось не больше полугода (какое точное предчувствие!). Именно в больнице Есенин написал о своей грядущей кончине: «Есть одна хорошая песня у соловушки – / Песня панихидная по моей головушке»…
Примерно в это же время, в апреле 1925 г., Анна Ахматова написала стихотворение о своем погибшем муже Николае Гумилеве, но оно оказалось пророческим и по отношению к Есенину. И не случайно уже после его гибели Ахматова записала этот стих в альбом Софьи Толстой с названием «Памяти Сергея Есенина»:

Так просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безбольно догореть…
Но не дано российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.
Всего верней свинец душе крылатой
Небесные откроет рубежи,
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.
Прощальные мотивы звучат и в великолепном стихотворении Есенина «Прощай, Баку! Тебя я не увижу…», написанном чуть позднее в мае 1925 г. и посвященном городу, который очаровал поэта своей синью, волнами Каспия и майским цветением:
Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!
Хладеет кровь, ослабевают силы.
Но донесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия, и балаханский май.
Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!
В последний раз я друга обниму…
Чтоб голова его, как роза золотая,
Кивала нежно мне в сиреневом дыму.
А чуть позднее, в июле 1925 г., поэт так выразил свое главное желание в то время:
Дайте мне на родине любимой,
Всё любя, спокойно умереть!
Однако все эти стихи, как и знаменитое «До свиданья, друг мой, до свиданья…», ничуть не могут быть доказательствами того, что поэт совершил самоубийство в злосчастном «Англетере». Одно дело предчувствия и интуиция ранимой поэтической души, и совсем другое – реальные обстоятельства смерти поэта, которые доказывают, что Есенин был убит, а инсценировка его гибели была сделана так топорно и грубо, что не выдерживает даже легкой критики. В последние годы появилось огромное количество исследований и документов, проливающих свет на драму в «Англетере» и стирающих с Есенина клеймо самоубийцы. К сожалению, в настоящем статье подробно осветить эту тему не получится: она требует отдельного рассмотрения.
В заключение хочется вспомнить очень точные слова, которые сказал о поэте М. Горький: «…Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой “печали полей”, любви ко всему живому в мире и милосердия, которое – более всего иного – заслужено человеком». Еще в 1999 г. я, считающий себя «поэтом есенинских кровей с почерком Серебряного века», написал: «А поэты, если умирают, / Попадают в мир своих стихов». И мне то и дело видится, что «златоглавый поэт», «нежная слава России», «путник, в лазурь уходящий», гуляет сейчас не только по русским полям с васильками и ромашками, но и по усыпанным розами горам и холмам Персии где-нибудь неподалеку от Тегерана или Шираза, а рядом с ним, как братья, идут Хайям и Саади…

Москва — столица русской поэзии
Масштабное и уникальное исследование историка Сергея Дмитриева о поэтах, связанных с Москвой, и их творчестве. В серии очерков мы узнаем, какой же город самый поэтический, Москва или Санкт-Петербург, о временах расцвета и упадка Москвы "поэтической", познакомимся с лучшими стихами, посвященными столице нашей Родины.
100 поэтов, рожденных в Москве
Если спросить любого россиянина, какой город можно назвать столицей русской поэзии, то, пожалуй, ответы почти поровну распределятся между Санкт-Петербургом и Москвой. Однако мало кто сможет объяснить свою позицию с фактами в руках. А между тем главным критерием правильного ответа на поставленный вопрос является выяснение того, сколько и каких конкретно поэтов родилось в том или ином городе. Ведь именно место рождения поэта, его жизнь в родных пенатах во многом определяют его будущее творческое лицо.
Не будем томить читателей и разгадаем этот ребус, сделав впервые то, что еще никто не делал: подсчитаем, в каком же городе нашей страны родилось за всю историю больше всего поэтов, впитавших в себя, что называется «с молоком», поэтический дух определенного места на карте России. И, конечно, обратиться нам придется к столицам нашей Родины — Москве и Санкт-Петербургу, которые уже три века соперничают за звание поэтической «мекки» России. Ведь «северная столица» появилась на свет как раз в начале XVIII века, когда началась почти с самых истоков настоящая история русской поэзии, и у Москвы тогда вовсе не было какого-либо временного задела.
Опуская все сложные этапы сбора информации, объявим сразу полученный результат: самым поэтическим местом России по количеству родившихся в одном месте поэтов, безусловно, является Москва. Если для облегчения задачи учитывать только тех поэтов, которые родились в Москве до 1945 года, то выяснится, что в «белокаменной» родилось не менее 100 поэтов. И этот процесс начался еще в 30-40-годах XVIII века, когда на свет появились поэт А.А. Ржевский и драматург Д.И. Фонвизин, автор «Недоросли», не чуравшийся стихотворных занятий.
Список (приведен в конце главы) впечатляет не только количеством «поэтов-москвичей», но и в «качеством» их талантов. Из этого списка можно смело выделить около 20 поэтов, которые входят в самый первый ряд русской поэзии, в том числе трех гениев поэтического слова А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, которые одни только могли бы «перетянуть» на Москву звание первой столицы русской поэзии. А ведь к ним еще следует добавить такие звонкие имена: И.А. Крылов, Д.В. Давыдов, П.А. Вяземский, А.А. Дельвиг, Д.В. Веневитинов, А.Н. Майков, А.А. Григорьев, Вячеслав Иванов, В.Я. Брюсов, Андрей Белый, В.Ф. Ходасевич, Б.Л. Пастернак, М.И. Цветаева, С.В. Михалков, А.А. Вознесенский, Б.А. Ахмадулина, В.С. Высоцкий. Оставшиеся имена списка тоже внесли в мозаику русской поэзии свои неповторимые краски. А если к ним прибавить поэтов, родившихся после 1945 года, многие из которых еще творят на благо поэзии, то превосходство Москвы станет еще более очевидным.
В петербуржском списке тоже есть звонкие имена: А.И. Одоевский, Д.С. Мережковский, А.А. Блок, С.М. Городецкий, Н.С. Гумилев, Игорь Северянин, К.М. Симонов, И.А. Бродский, но он намного короче – около 60 человек - и не так впечатляющ как «московский». Сравнение этих двух списков дает любопытный результат: если около половины известных поэтов-москвичей появились и творили именно в «золотой век» русской поэзии, заложив его основы и подняв на невиданный уровень (любопытно, что самыми «плодовитыми» оказались в этом смысле около 20 лет — с 1792 по 1814 год — от появления на свет Вяземского до рождения Лермонтова), то в петербургском списке выделяются творцы «серебряного века», начиная с Мережковского, Блока и Гумилева. В какой-то степени Москву можно называть колыбелью «золотого века», а Санкт-Петербург – «серебряного века» русской поэзии, однако на этом их соперничество ничуть не остановилось, что мы и увидим в дальнейших постах нашего проекта.
Список поэтов, родившихся в Москве (до 1945 г.), с указанием в скобках года рождения того или иного поэта:
А.А. Ржевский (1737)
С.Г. Домашнев (1742)
Д.И. Фонвизин (1745)
Н.Е. Струйский (1749)
А.С. Шишков (1754)
И.М. Долгоруков (1764)
В.Л. Пушкин (1766)
Н.С. Смирнов (1767)
И.А. Крылов (1769)
И.П. Пнин (1773)
А.Ф. Воейков (1779)
И.И. Козлов (1779)
А.С. Кайсаров (1782)
Д.В. Давыдов (1784)
М.А. Дмитриев-Мамонов (1790)
П.А. Вяземский (1792)
А.С. Грибоедов (1795)
Д.И. Долгоруков (1797)
А.А. Дельвиг (1798)
А.С. Пушкин (1799)
П.С. Бобрищев-Пушкин (1802)
А.И. Тургенев (1803)
А.С. Хомяков (1804)
Д.В. Веневитинов (1805)
Н.П. Греков (1810)
Е.П. Ростопчина (1811)
М.Ю. Лермонтов (1814)
А.Н. Майков (1821)
А.А. Григорьев (1822)
Л.А. Мей (1822)
Н.В. Берг (1823)
В.П. Буренин (1841)
П.А. Козлов (1843)
В.С. Соловьев (1853)
И.А. Белоусов (1863)
В.А. Шуф (1865)
В.И. Иванов (1866)
П.С. Соловьева (1867)
В.Я. Брюсов (1873)
Т.Л. Щепкина-Куперник (1874)
Г.И. Чулков (1879)
Андрей Белый (1880)
С.М. Соловьев (1885)
В.Ф. Ходасевич (1886)
Н.Я. Агнивцев (1888)
Н.В. Крандиевская-Толстая (1888)
К.А. Липскеров (1889)
Б.Л. Пастернак (1890)
В.А. Петрушевский (1891)
Г.В. Адамович (1892)
М.И. Цветаева (1892)
С.В. Шервинский (1892)
А.И. Пришелец (1893)
Я.Н. Горбов (1896)
В.И. Казанский (1896)
А.Б. Ярославский (1896)
М.Д. Ройзман (1896)
В.И. Лебедев-Кумач (1898)
А.С. Кочетков (1900)
В.А. Луговской (1901)
Б.Ю. Поплавский (1903)
А.Л. Барто (1906)
Ю.П. Иваск (1907)
В.М. Гусев (1909)
С.В. Михалков (1913)
Е.А. Долматовский (1915)
М.А. Соболь (1918)
Давид Самойлов (1920)
М.В. Михалков (1922)
А.П. Межиров (1923)
Н.К. Старшинов (1924)
Ю.В. Друнина (1924)
Б.Ш. Окуджава (1924)
К.Я. Ваншенкин (1925)
Г.В. Сапгир (1928)
В.П. Котов (1928)
Н.С. Анциферов (1930)
Л.П. Дербенев (1931)
Е.Л. Храмов (1932)
А.А. Вознесенский (1933)
Ю.И. Визбор (1934)
Ю.С. Энтин (1935)
В.И. Гафт (1935)
А.А. Иванов (1936)
Ю.Ч. Ким (1936)
Б.А. Ахмадулина (1937)
Г.Ф. Шпаликов (1937)
М.Р. Садовский (1937)
И.В. Кохановский (1937)
О.М. Дмитриев (1937)
В.С. Высоцкий (1938)
В.В. Казаков (1938)
Д.Е. Авалиани (1938)
Н.М. Олев (1939)
С.Г. Козлов (1939)
А.А. Парпара (1940)
Д.А. Пригов (1940)
Л.А. Рубальская (1945).
От истоков до Золотого века поэзии

Москва подарила русской литературе так много поэтов, что только в 2020 году в этом списке можно насчитать восемь юбиляров: Д.И. Фонвизин – 275 лет со дня рождения, А.С. Грибоедов – 225 лет, Д.В. Веневитинов - 215 лет, Андрей Белый – 140 лет, Б.Л. Пастернак – 130 лет, Е.А. Долматовский – 105 лет, Д.С. Самойлов – 100 лет, К.А. Ваншенкин – 95 лет. Концентрация поэтической энергии в Москве часто просто зашкаливала, особенно если учесть, что не только рождением поэтов в том или ином месте определяется его роль в истории русской поэзии.
Не будет преувеличением сказать, что с Москвой связали свой жизненный путь сотни поэтов, которые подолгу или наездами жили в Москве, впитывая в себя ее «литературные токи». И все из них, без исключения, оставляли стихи, посвященные «городу на семи холмах». Здесь мы подходим ко второму критерию для выбора столицы русской поэзии — количеству написанных в честь этого места стихотворений. И результат всех возможных подсчетов будет очевидным: Москва намного опережает все другие города, в том числе и «северную столицу». И чтобы доказать это, достаточно обратиться к тем стихам о столице, которые оставили сотни русских поэтов, начиная с безвестного летописца, автора «Задонщины» (ок. 1389 г.): «Оле жаворонок, летняя птица, красных дней утеха, возлети под синие облакы, посмотри к силному граду Москве, воспей славу великому князю Дмитрею Ивановичю... На Москве кони ржут, звенит слава по всей земле Руской, трубы трубят на Коломне...»
Истоки уже почти трехвековой антологии московской поэзии следует искать еще в середине XVIII века, когда М.В. Ломоносов мог восклицать, что Москва «пречудна в древней красоте» и, «стоя в средине всех», возносит свою главу, «как кедр меж низкими древами». В эти же годы А.П. Сумароков начал слагать восторженные гимны «великому граду» – «славе росской», «владычице русских городов»: «А ты, Москва! А ты, первопрестольный град, / Жилище благородных чад»; «Дай небо, чтобы ты была благополучна, / Безбранна, с тишиной своею неразлучна». И прав оказался поэт А.А. Палицын, когда писал в 1807 г.: «Московский никогда не умолкал Парнас, / Повсюду муз его был слышен лирный глас...»
Конечно, самые теплые чувства Москва рождала в первую очередь у поэтов, родившихся в столице. А.А. Ржевский писал:

Прости, Москва, о град, в котором я родился,
В котором в юности я жил и возрастал,
В котором живучи, я много веселился,
И где я в первый раз любви подвластен стал…
Но где, расставшися с тобою, жить ни буду,
Любви не истреблю к тебе я никогда,
Ни на единый час тебя я не забуду,
Ты в памяти моей пребудешь навсегда.
Как этот стих, написанный еще в 1761 г., созвучен со словами «гимна» Москве уже другой, советской, эпохи, принадлежащего перу М.С. Лисянского и С.И. Аграняна:
Я по свету немало хаживал,
Жил в окопах, в землянке, в тайге,
Похоронен был дважды заживо,
Знал разлуку, любил в тоске.
Но Москвою привык я гордиться,
И везде повторял я слова:
Дорогая моя столица,
Золотая моя Москва!
Парадокс, но эти строки, рожденные в годы Великой Отечественной войны, подтверждают тот знаменательный факт, что эпохальные события всегда отражаются на развитии и взлетах поэзии. Ведь именно бурные события Отечественной войны 1812 г., пожар Москвы, а затем славные победы России послужили своеобразным водоразделом рождения Золотого века русской поэзии, в котором московская тема звучала особым камертоном. Так совпало, что именно в преддверии и в ходе великой эпохи 1812 г. как будто по особому замыслу каждые несколько лет в столице рождались поэты, составившие славу Золотого века: в 1784 - Денис Давыдов, в 1792 - П.А. Вяземский, в 1795 - А.С. Грибоедов, в 1798 - А.А. Дельвиг, в 1799 - А.С. Пушкин, в 1805 - Д.В. Веневитинов, в 1814 – М.Ю. Лермонтов.
Любопытно, что все эти поэты, охваченные водоворотом эпохи, были настоящими странниками, судьба закидывала их часто в самые разные пределы – от Кавказа и Персии до Европы и «северной столицы». Но они всегда возвращались в родную Москву и прославляли ее своим поэтическим словом. А.С. Грибоедов после возвращения из Персии в 1823 г. именно в Москве завершил свою бессмертную комедию «Горе от ума», где Фамусов утверждал: «А, батюшка, признайтесь, что едва / Где сыщется столица, как Москва», а Чацкий как всегда всё подвергал сомнению: «Что нового покажет мне Москва? / Вчера был бал, а завтра будет два». Его комедия стала признанным портретом «грибоедовской Москвы», и мы со школьной скамьи помним: «Гоненье на Москву. Что значит видеть свет! / Где ж лучше? – Где нас нет»; «Что за тузы в Москве живут и умирают!»; «В Москве ведь нет невестам перевода»; «Возьмите вы от головы до пяток, / На всех московских есть особый отпечаток»; «Да и кому в Москве не зажимали рты / Обеды, ужины и танцы?»
А.С. Пушкин, которого судьба на 15 лет разлучила с родной Москвой после отъезда в 1811 г. в Лицей, именно в ней нашел для себя и вдохновение, и любовь. Вот как поэт признавался в любви к своему родному городу в «Евгении Онегине»:
Но вот уж близко. Перед ними
Уж белокаменной Москвы,
Как жар, крестами золотыми
Горят старинные главы.
Ах, братцы! как я был доволен,
Когда церквей и колоколен,
Садов, чертогов полукруг
Открылся предо мною вдруг!
Как часто в горестной разлуке
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Москва... как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!
А в черновом варианте этой же седьмой главы «Евгения Онегина» поэт так продолжил эти строки:
В изгнанье, в горести, в разлуке,
Москва! Как я любил тебя,
Святая родина моя!
Пушкин часто рвался в родные пенаты: «Пора! В Москву, в Москву сейчас!», и хотел, как Онегин, после странствий оказаться именно в столице:
…Вот Евгений мой
В Москве проснулся на Тверской.
Москва Онегина встречает
Своей спесивой суетой,
Своими девами прельщает,
Стерляжьей потчует ухой…
А в знаменитых «Дорожных жалобах» поэт не случайно мечтал:
То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге размышлять!
То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошел же, погоняй!
Почти такими же словами преклонения перед Москвой высказывался юный Лермонтов: «Москва моя родина, и такою будет для меня всегда: там я родился, там много страдал и там же был слишком счастлив». И не случайно свои сыновьи чувства поэт отчеканил всего лишь в четырех возвышенных строках:
Москва! Москва! Люблю тебя как сын,
Как русский, — сильно, пламенно и нежно!
Люблю священный блеск твоих седин
И этот Кремль зубчатый, безмятежный.
Русская поэзия переживала в первой половине XIX века свой Золотой век, и многие его представители – К.Н. Батюшков, И.А. Крылов, Г.Р. Державин, В.А. Жуковский, Е.А. Баратынский, П.А. Вяземский, А.И. Полежаев, Н.А. Некрасов оставили чудные строки о «белокаменной столице». Своеобразный итог этим размышлениям подвел в своём знаменитом стихотворении «Москва» (1840) Ф.Н. Глинка, родившийся в Смоленской области, но полюбивший Москву до глубины души:
Город чудный, город древний,
Ты вместил в свои концы
И посады, и деревни,
И палаты, и дворцы!
Опоясан лентой пашен,
Весь пестреешь ты в садах;
Сколько храмов, сколько башен
На семи твоих холмах!..
Процветай же славой вечной,
Город храмов и палат!
Град срединный, град сердечный,
Коренной России град!
И сегодня не только жители Москвы, но и все, кто приезжает в столицу России и кому дороги ее приметы, могут вслед за появившемся на свет в Москве А.Н. Майковым сказать:
Мы – москвичи! Что делать, милый друг!
Кинь нас судьба на север иль на юг –
У нас везде, со всей своею славой,
В душе – Москва и Кремль золотоглавый…
Серебряный век московской поэзии
 Санкт-Петербургу выпала честь стать колыбелью и главной движущей силой Серебряного века русской поэзии, что определила во многом когорта поэтов-уроженцев «северной столицы», начиная с С.Я. Надсона, Д.С. Мережковского, А.А. Блока и завершая С.М. Городецким, Игорем Северянином и Н.С. Гумилевым. Казалось бы, Санкт-Петербургу удалось тогда, наконец-то, забрать у Москвы пальму поэтического первенства, но всё было не так просто. Ведь в тот период уже настолько облегчились контакты и связи поэтов двух столиц, что между ними сложилось фактически общее творческое пространство, в орбиту которого попадали и петербуржцы, и москвичи, и посланцы других городов, обогащая друг друга.
Санкт-Петербургу выпала честь стать колыбелью и главной движущей силой Серебряного века русской поэзии, что определила во многом когорта поэтов-уроженцев «северной столицы», начиная с С.Я. Надсона, Д.С. Мережковского, А.А. Блока и завершая С.М. Городецким, Игорем Северянином и Н.С. Гумилевым. Казалось бы, Санкт-Петербургу удалось тогда, наконец-то, забрать у Москвы пальму поэтического первенства, но всё было не так просто. Ведь в тот период уже настолько облегчились контакты и связи поэтов двух столиц, что между ними сложилось фактически общее творческое пространство, в орбиту которого попадали и петербуржцы, и москвичи, и посланцы других городов, обогащая друг друга.
Поэты часто, почти по очереди, жили то в Москве, то в Санкт-Петербурге, и чей вклад в общее течение поэтической реки России был тогда весомее, установить очень и очень трудно. Достаточно лишь напомнить, что в «белокаменной» творили в те годы такие мастера рифмы, внесшие свои неповторимые краски в копилку Серебряного века, как В.Я. Брюсов, Андрей Белый, В.Ф. Ходасевич, Б.Л. Пастернак, Г.В. Адамович, М.И. Цветаева и многие другие. В поэзии вообще нельзя на каких-то точных весах, в каких-то точных процентах взвешивать и измерять, кто же из поэтов лучше, талантливее и интереснее. Два крыла русской поэзии – московское и питерское – вот уже три века, преодолевая все преграды, выносят ее, как птицу, на новые высоты и горизонты, помогая друг другу. Так было и в Серебряном веке.
Следует также учитывать, что в предреволюционные годы именно в Москву, как в поэтическую «мекку», прибывали и оставались там жить молодые поэты, становившиеся вскоре звездами первой величины. Так получилось с Сергеем Есениным, пареньком из рязанской деревни Константиново, который в июле 1912 г. приехал в Москву к отцу, работавшему в мясной лавке, и остался жить в столице. Есенину будет подарено судьбой около 6 лет московской жизни, не считая его службы в армии и путешествий, и этот период станет важнейшим в творческом развитии «самого русского из всех поэтов». Есенин всем сердцем принял Москву - этот огромный, хотя и не совсем понятный ему город:
Я московский озорной гуляка.
По всему тверскому околотку
В переулках каждая собака
Знает мою лёгкую походку…
Я люблю этот город вязевый,
Пусть обрюзг он и пусть одрях.
Золотая дремотная Азия
Опочила на куполах.
Поэт, живя в Москве, прекрасно понимал, что он без возврата «покинул родные поля» и почти смирился с тем, что именно в ней ему суждено будет окончить свой жизненный путь:
Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
Умереть, знать, судил мне бог.
Почти такая же драматическая, но творчески насыщенная история ждала в Москве и Владимира Маяковского, родившегося в Багдати Кутаисской губернии и переехавшего в Москву с семьей в июле 1906 г. в возрасте 13 лет. Маяковский тоже прикипел к столице, и он совсем не кокетничал, когда сказал: «Я хотел бы жить и умереть в Париже, / Если б не было такой земли — Москва». На глазах Маяковского, вовлеченного с головой в революцию, Москва как бы раздваивалась – на старую, уходящую в прошлое, и новую, в которой «новое в людях роится»: «вторая Москва вскипает и строится». Маяковский удалось тем самым перенести свою любовь к великому городу уже в советскую эпоху.
Московские поэты Серебряного века продолжали воспевать Москву ничуть не меньше стихотворцев Золотого века. И не важно, к какому направлению поэзии – символизму, акмеизму, имажинизму, крестьянскому направлению или футуризму – они тогда относились. Марина Цветаева воспринимала столицу как город-чудо, как город-символ: «У меня в Москве — купола горят, / У меня в Москве — колокола звонят». И не случайно она «дарила» петербуржцу Осипу Мандельштаму свой любимый город: «Из рук моих нерукотворный град / Прими мой странный, мой прекрасный брат». А тот в ответ тоже писал восторженные стихи о Москве, которая влекла его к себе своей самобытностью:
И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.
Удивительно, но звонкие стихи о Москве можно встретить в багаже многих поэтов-петербуржцев. А.А. Блока: «В час утра, чистый и хрустальный, / У стен Московского Кремля, / Восторг души первоначальный / Вернет ли мне моя земля?». М.А. Кузмин: «Достанем всё, чего лишь надо нам, / И жизнь кипуча и мертва, / Но вдруг пахнет знакомым ладаном - / Родная, милая Москва!». Вячеслав Иванов, москвич по рождению, переехавший однако в Санкт-Петербург, где его квартира-«Башня» стала поэтическим центром: «Как улей медных пчёл, / Звучат колокола: / То Духов день, день огневой, / Восходит над Москвой…»
И все равно в соревновании по отражению в стихах московского чуда побеждали уроженцы «белокаменной». Всех превзошел неповторимый В.Я. Брюсов, год за годом отражавший в своих стихотворениях «дыхание» московского бытия:
Нет тебе на свете равных,
Стародавняя Москва!
Блеском дней, вовеки славных
Будешь ты всегда жива!
Град, что строил Долгорукий
Посреди глухих лесов,
Вознесли любовно внуки
Выше прочих городов…
Расширяясь, возрастая,
Вся в дворцах и вся в садах,
Ты стоишь, Москва святая,
На своих семи холмах.
Ты стоишь, сияя златом
Необъятных куполов,
Над Востоком и Закатом
Зыбля звон колоколов!
И прав оказался поэт С.М. Соловьев, тоже москвич по рождению, внук знаменитого историка С.М. Соловьева, который даже в предгрозовые годы русской революции писал, заглядывая в будущее, что поэты никогда не перестанут воспевать Москву:
Не замолкнут о тебе витии,
Лиры о тебе не замолчат,
Озлащённый солнцем Византии,
Третий Рим, обетованный град.
Москва в авангарде советской поэзии
 Перенос столицы новой властью в Москву из Петрограда в марте 1918 г. не мог не усилить ее позиции в поэтическом противостоянии с северной столицей. И Москва на долгое время оказалась в авангарде советской поэзии, тем более что эта поэзия рождалась просто на глазах, и вбирая в себя достижения Серебряного века, и рождая новые формы. Парадокс заключался в том, что советскими поэтами в той или иной степени становились, часто даже нехотя и не понимая этого до конца, многие яркие дореволюционные поэты, которые не эмигрировали, а остались на Родине.
Перенос столицы новой властью в Москву из Петрограда в марте 1918 г. не мог не усилить ее позиции в поэтическом противостоянии с северной столицей. И Москва на долгое время оказалась в авангарде советской поэзии, тем более что эта поэзия рождалась просто на глазах, и вбирая в себя достижения Серебряного века, и рождая новые формы. Парадокс заключался в том, что советскими поэтами в той или иной степени становились, часто даже нехотя и не понимая этого до конца, многие яркие дореволюционные поэты, которые не эмигрировали, а остались на Родине.
1921-й год, год смерти А.Блока и Н.Гумилева, не случайно считают годом завершения Серебряного века (немаловажно, что эти трагедии с поэтами произошли именно в Петрограде). Страна вступала тогда в новую эпоху, определявшую движение вперед, в том числе и в сфере культуры. Многие поэты очень болезненно переживали этот перелом, и неважно, был ли это «поэт с крестьянской душой» Сергей Есенин, бывший футурист Владимир Маяковский, эстет-поэт и одновременно прозаик Андрей Белый или «живой классик» рифмы Валерий Брюсов. Все они, сохраняя свои индивидуальности, мучаясь и меняясь на ходу, вносили ту или иную лепту в формирование нового облика поэзии страны с названием СССР, пусть даже власти считали их при этом часто попутчиками или чуждыми элементами.
Многим поэтам старого поколения, таким как Андрей Белый, приходилось тогда больше обращаться к прошлому и вспоминать о былой, неповторимой Москве:
О, незабвенные прогулки,
О, незабвенные мечты,
Москвы кривые переулки…
Промчалось все: где юность ты!..
А Владислав Ходасевич, переживший невзгоды Гражданской войны в Москве, даже в 1919 г. видел уже все-таки свет в конце «тоннеля испытаний»:
Я знаю: рук не покладает
В работе мастер гробовой,
А небо все-таки сияет
Над вечною моей Москвой.
Поэтов примиряла с горестями жизни в эпоху революции вековая связь с родным городом, которую так точно определил москвич Валерий Брюсов, меньше чем за год до своей смерти восклицавший в декабре 1923 г., что «с земли до звёзд встает Москва!»:
Здесь полнит память все шаги мне,
Здесь, в чуде, я абориген,
И я храним, звук в чьем-то гимне,
Москва! В дыму твоих легенд!
Скажем попутно, что даже эмигрировавшие из России поэты продолжали издалека бредить Москвой, как это случилось, например, с Константином Бальмонтом, не раз повторявшим в эмиграции известные пушкинские строки о Москве:
Так я шептал, - внемлите, внуки
Мои, от дочери моей, -
Дивясь, шептал на утре дней:
«Москва! Так много в этом звуке?»
А ею жил. И ей живу.
Люблю, как лучший звук, Москву!
Ему вторила Марина Цветаева, ощущавшая, уже в эмиграции в октябре 1922 г. сильную ностальгию по Москве:
Точно жизнь мою угнали
По стальной версте –
В сиром мороке – две дали…
(Поклонись Москве!)
Точно жизнь мою убили.
Из последних жил
В сиром мороке в две жилы
Истекает жизнь.
В 1920-е и 1930-е годы постепенно среди московских поэтов нарастало ощущение глобальной перестройки всего и вся, нарастало, несмотря на трудности, принятие нового мира. Илья Эренбург так писал о масштабной реконструкции Москвы в 1938 г.: «Сердец кипенье: город взрезан, взорван, вскопан, / А судьбы сыплются меж пальцев, как песок». А Ярослав Смеляков, представитель более молодого поколения поэтов, следующими строками описывал изменения жизни в 1934 г. :
Но встает –
Опять, еще и снова,
Оплатив домашние счета,
город мой – помолодевший, новый,
Город мой – звучащая мечта.
И шумит крылами ветер горький,
Северный,
Идущий от морей.
Над заводами АМО,
Над Трехгоркой
И над типографией моей.
И даже «сомнительный» с точки зрения новой власти Осип Мандельштам признавался в 1931 г.:
Пора вам знать: я тоже современник
Я человек эпохи Москвошвея, -
Смотрите, как на мне топорщится пиджак,
Как я ступать и говорить умею!
Попробуйте меня от века оторвать,
Ручаюсь вам – себе свернете шею!
Многим певцам революции вторил неистовый Маяковский, писавший в 1926 г. о том, как новая Москва «вскипает и строится»:
Великая стройка
уже начата.
И в небо
лесами идут
там
почтамт,
здесь
Ленинский институт.
Дыры
метровые
потом политы,
чтоб ветра быстрей
под землей полетел,
из-под покоев митрополитов
сюда чтоб
вылез
метрополитен.
Бежали годы, и вскоре грянула страшная война, оказавшая колоссальное воздействие на развитие поэзии, поднявшейся в этот период до невиданных высот духовности и искренности. И поэты-москвичи не остались в стороне от суровых событий. Как писал в своих стихах, ставших известной песней, поэт Евгений Винокуров, вернувшийся с войны,
В полях за Вислой сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой Бронной
И Витька с Моховой.
Конечно, мы со школьной скамьи знаем «Василия Теркина» Александра Твардовского и «Жди меня» Константина Симонова, однако, особенно трогательными и не столь известными сегодня являются стихи тех молодых поэтов, которые погибли на фронтах Великой Отечественной войны. А было их, как установили исследователи, около 50 человек со средним возрастом жизни – менее 30 лет. И многие из них хотя бы небольшое время жили в столице. Вот стихи Вячеслава Афанасьева (1903 – 1943), которого война застала в Москве, поэт ушёл добровольцем в народное ополчение, затем в партизанский отряд и погиб в сентябре 1943 г. в бою за освобождение Смоленска:
Застигнутый последней метой
не успев всего допеть,
Благословлю я землю эту,
Когда придётся умереть…
Что это как не гимн жизни в советской стране, написанный человеком, готовым умереть за свою Родину? Такие же проникновенные строки принадлежат перу и Бориса Богаткова (1922–1943), учившегося в Москве в Литературном институте и погибшего на Гнездиловских высотах. Вот с какими чувствами поэт уходил на фронт добровольцем осенью 1941 г.:
Как я ждал её! И наконец-то
Вот она, желанная, в руках!..
…Пролетело, отшумело детство
В школах, в пионерских лагерях…
Молодость за всё родное биться
Повела ребят в огонь и дым,
И спешу я присоединиться
К возмужавшим сверстникам своим!
Москва, как образ Родины, сопровождала многих поэтов на фронте и вселяла уверенность в грядущей победе, как это прекрасно отразил, что поразительно, еще в конце 1941 г. Леонид Шершер (1916 – 1942), который после окончания института в Москве ушел в авиацию и погиб во время боевого вылета:
Что я скажу, как сумею найти я
Лучшие в мире слова!
Я даже не крикну, а тихо скажу вам:
Да здравствует наша Москва!»
После Великой Победы Москва вернулась к мирной жизни, расцвела еще краше, и поэты-москвичи продолжали свои поэтические поиски. Одно перечисление имен поэтов, творивших в Москве вплоть до крушения СССР и подтверждавших, что именно она и в это время оставалась столицей поэзии, не может не впечатлять: Борис Пастернак, Евгений Долматовский, Арсений Тарковский, Даниил Андреев, Илья Эренбург, Павел Антокольский, Владимир Луговской, Алексей Фатьянов, Евгений Винокуров, Владимир Соколов, Борис Слуцкий, Николай Заболоцкий, Юрий Кузнецов, Анатолий Передреев, Владимир Высоцкий, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Булат Окуджава и многие, многие другие. И для того, чтобы показать их вклад в московскую поэзию, пришлось бы написать целые тома…
Москва и поэзия XXI века
 Сменялись века, бежали годы, а Москва продолжала и продолжает очаровывать все новых поэтов. Время бежало вперед, и московские поэты старались поспевать за ним, снова меняясь и мучаясь так же, как это происходило в первые десятилетия советской эпохи. Вот такими строками, например, Белла Ахмадулина пыталась заявить о своей готовности идти со временем в ногу:
Сменялись века, бежали годы, а Москва продолжала и продолжает очаровывать все новых поэтов. Время бежало вперед, и московские поэты старались поспевать за ним, снова меняясь и мучаясь так же, как это происходило в первые десятилетия советской эпохи. Вот такими строками, например, Белла Ахмадулина пыталась заявить о своей готовности идти со временем в ногу:
Дочь и внучка московских дворов,
объявляю: мой срок не окончен,
Посреди сорока сороков
Не иссякла душа-колокольчик.
О запекшийся в сердце моем
И зазубренный мной без запинки
Белокаменный свиток имен
Маросейки, Варварки, Ордынки!
Жизнь продолжалась и рождала новые стихи, воспевающие столицу. А разгадка этого проста, ее нашел еще Роберт Рождественский, писавший о «сказочном городе» Москве, где появляются и появляются новые москвичи:
Входит солнце в сновидения,
Руки солнца горячи…
Мы с тобой уже с рожденья
Москвичи.
Мы судьбу свою только начали,
Просто девочки, просто мальчики,
Но уже москвичи!
Если говорить о самом себе, то приехав в столицу уже более 40 лет назад, я прикипел к ней нешуточно, создав за это время целый цикл — более 50 — стихотворений о Москве, постаравшись соединить в себе две, казалось бы, противоположные ипостаси — новгородскую и московскую, веками спорившими между собой:
Очищается душа морозцем,
И метель шальная — нипочём...
Я не зря родился новгородцем,
Став потом случайно москвичом.
Самое сильное, что впечатляло и впечатляет меня до сих пор в Москве — это зримые приметы ее древней истории, каждый раз открывающиеся по-новому. Вот что я написал еще в 1980 г.:
Спит Москва. В полночном шлеме
Дремлет русская земля.
Зачарованны и немы
Стены стройного Кремля.
А это стихотворение родилось в 1999 г.:
У Москвы — своя порода
И загадочная стать:
Европейская свобода,
Азиатская печать,
Переулков тихих сонность,
Суета широких трасс,
И истории бездонность,
И богатство без прикрас…
И не настало ли время и в правду утверждать Москву как мировую столицу поэзии, для этого у нее есть все основания и права!
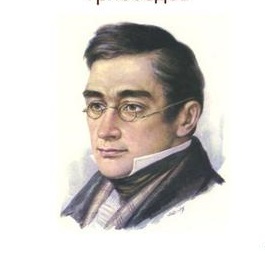
Александр Грибоедов: Неизвестные страницы великой судьбы
11 февраля 2019 г. исполнилось 190 лет с трагической даты 30 января (11 февраля) 1829 г., когда в Тегеране при разгроме посольства России погибло около 40 человек, в том числе великий русский поэт и дипломат Александр Сергеевич Грибоедов. А 15 января 2020 г. автору «Горя от ума» исполнилось 225 лет. Эти даты позволяют и даже диктуют нам еще раз взглянуть на его фигуру по-новому, с учетом того, что удалось открыть и осмыслить в судьбе поэта в самые последние годы. При этом придется еще раз удивиться, сколько разных ипостасей и талантов имел Грибоедов: поэт, драматург, музыкант, композитор, дипломат, воин, разведчик, путешественник, эрудит, полиглот и мыслитель. Эта серия очерков об Александре Сергеевиче Грибоедове — несколько глав из книги «Александр Грибоедов: Неизвестные страницы великой судьбы», выпущенной издательством «Вече» к 225-летию поэта.
К. Черкашин. Дьяки — предки и родственники А. С. Грибоедова

Как известно, А.С. Грибоедов, в отличие от своего полного тезки А.С. Пушкина, не занимался и не интересовался своей родословной. Архивы и официальная родословная Грибоедовых, поданная в конце XVII в. в герольдию, к величайшему сожалению, до нашего времени не дошли. Знание же родословной могло бы помочь ответить на несколько важных вопросов. Один из них: был ли предком А.С. Грибоедова знаменитый разрядный дьяк Фёдор Грибоедов?
До сих пор встречается порой написание его отчества как Иванович. Однако, судя по основному массиву опубликованных документов, отчество дьяка Фёдора — Иоакимович (Акимович, Якимович). Его отец упоминается в 1613—1633 гг. В первый раз он упоминается в 1613 г. как сын боярский рязанского архиепископа Феодорита. Феодорит — ключевая личность, местночтимый рязанский святой, которого можно напрямую связать с Романовыми и их призванием на царство. 21 февраля 1613 г. он вопрошал народ с Лобного места о том, кого следует возвести на престол. В марте 1613 г. архиепископ Феодорит возглавлял посольство в Кострому к инокине Марфе с известием об избрании ее сына Михаила на царство. Был ли Аким Грибоедов участником этих событий, нам неизвестно.

Святитель Феодорит Рязанский во главе посольства Великого Поместного и Земского собора 1613 г. призывает на царство Михаила Феодоровича Романова.
Но в 1620 г., т.е. спустя три года после смерти архиепископа, он упоминается уже как сын боярский старицы Марфы, матери царя Михаила Фёдоровича. И последнее упоминание отца дьяка Фёдора встречается в 1633 г., т.е. уже после смерти великой старицы в 1631 г. На сей раз он приказной человек рязанского архиепископа Антония.
Помогли ли связи отца Фёдору Грибоедову или нет, неизвестно, но, по книге С.Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV—XVII вв.», фактически пересказанной в статье о Ф.И. Грибоедове в Интернете на сайте wikipedia.org, первые сведения о службе «подьячего Федьки Грибоедова» восходят к 1628 и 1632 гг. Во время Смоленской войны он находился в армии боярина Михаила Шеина. В должности подьячего Приказа Казанского дворца Грибоедов в 1638 г. был послан «для золотой руды». Его имя упоминается и в других документах приказа: например, в «справленной» им грамоте Михаила Фёдоровича курмышскому воеводе Фёдору Философову от 23 августа 1639 г. В декабре 1646 г. Грибоедов числился уже «старым подьячим» с поместным окладом в 300 четвертей и денежным в 30 руб¬лей. В 1647 г. он находился «на государевой службе» в Белгороде, затем вернулся в Москву.

Копия Ведекинда с прижизненного портрета
В начале 1648 г. Грибоедов был в Ливнах при боярине князе Никите Одоевском — своём бывшем непосредственном начальнике. Летние события в Москве подтолкнули правительство к созданию нового свода законов. Для этого «государева и земского великого царьственного дела» 14 июля была образована комиссия, председателем которой стал Одоевский, а одним из членов — Грибоедов. Чиновникам поручалось собрать из разных учреждений, сверить и систематизировать все законодательные материалы, накопившиеся со времён Уложения 1607 г. Вопросы, на которые «в судебниках указу не положено, и боярских приговоров на те статьи не было», Одоевский с сотрудниками должны были «изложити... общим советом» и «в доклад написати». За участие в кодификационной работе Фёдор Акимович 25 ноября получил чин дьяка, с удвоенными поместным и денежным окладами. В 1649—1660 гг. Грибоедов продолжал работать в Казанском приказе, дослужившись к 1654 г. до чина старшего дьяка. 13 января 1659 г. он был включён в состав посольства к украинскому гетману Ивану Выговскому, а летом, вероятно, находился в русском стане при осаде Конотопа и отступлении к Путивлю. В октябре того же года Грибоедов ездил с главой Казанского приказа князем Алексеем Трубецким в Запорожье для участия в раде, возведшей на гетманство лояльного Москве Юрия Хмельницкого. За дипломатические успехи (новый гетман подписал Переяславские статьи, существенно ограничивавшие автономию Войска Запорожского) дьяк в феврале 1660 г. получил от царя «шубу отлас золотой в 50 рублёв, да кубок в 2 гривни, да к прежнему его окладу придачи поместного окладу 150 четей, денег 20рублёв, да на вотчину 2000 ефимков».
С 16 января 1661 г. Грибоедов служил в центральных органах военного управления: сначала в Приказе полковых дел, а с 11 мая 1664 г. — в Разрядном приказе. В январе 1669 г. дьяк вошёл в состав комиссии для переговоров с представителями архиепископа Черниговского Лазаря и гетмана Демьяна Многогрешного. К этому же времени относится награждение Грибоедова Алексеем Михайловичем за написание «Истории о царях и великих князьях».
К 1670 м гг. дьяк имел поместья в Алатырском, Арзамасском, Каширском, Коломенском и Переславском уездах. Его двор в Москве располагался в районе «Устретенской сотни, по Покровке». С13 октября 1670 г. по 29 мая 1673 г. Грибоедов вновь числился дьяком Приказа Казанского дворца. В документе, датированном «новолетием» 1 сентября 1673 г., о дьяке говорится уже как о покойном.

Аполлинарий Михайлович Васнецов. Старая Москва. Улица в Китай-городе начала XVII века.
О семейной жизни дьяка Грибоедова сохранилось мало сведений. Известно, что его жену звали Евдокией, а одну из дочерей — Стефанидой. Перед смертью он принял постриг под именем Феодот и был внесен в синодик Андрониковского монастыря. Похоронен Ф.И. Грибоедов в селе Рогожа Ржевского (потом Осташковского) уезда.
В 1857 г. в селе Рогожа Осташковского уезда Тверская археологическая комиссия обнаружила «нетленное тело», одетое в серый камзол. Тело было идентифицировано как останки, принадлежащие «именно Ф. Грибоедову, а не кому иному» и перезахоронено на осташковском кладбище. Душеприказчиком дьяк Фёдор назначил старца Ниловой пустыни Георгия Лутохина (в миру Юрий Петрович Лутохин, сын дьяка, стрелецкий голова. Постригся в монастырь в Ниловой пустыне в 1682 г. Похоронен в 1692 г. в Чудовом монастыре). Ему дьяк поручил передать книгу и дать денег на постройку двух церквей: «Сию книгу Устав дал во Ржевский уезд в Пелагеину пустыню в Рогожский девинь монастырь старец Герман Лутохин в вечное поминовение по дьяке по Феодоте Грибоедове и по супруге иво по Евдокеи и по дщери их Стефаниде. А потписал сию книгу яс Герман Лутохин своею рукою»
Был ли Лутохин родственником Фёдором Акимовича или его жены, неизвестно, но выбор душеприказчиком человека не по фамилии Грибоедов, скорее всего, свидетельствует о том, что потомства мужского рода дьяк не оставил. Также об этом явно свидетельствует и челобитная рязанцев Лариных о поместье в Перевицком стане Рязанского уезда. Вот выдержка из этой челобитной:
«...Дмитрий да Михайла Никифоровы дети Лаврентьевы Ларины они ж бьют челом в нын. во 198 году бьет челом Григорей Спешнее о выморочной вотчине Якима Тимофеева с. Грибоедова в Резанском уезде в Перевицком стане о жеребье деревни Лариной о 20 четях себе в поместье.
А та ж вотчина старинная по дозорной книге отца их Никифора Васильева сна Лаврентьева и Ларина. А Якима Тимофеева с. Грибоедова нестало давно и после ево жены и детей не осталось...» (РГАДА. Ф. 1209. Оп. 78. № 2463, 1689—1690 г. Запись челобитной Дмитрия и Михаила Лаврентьевичей Лариных об отказе им выморочной вотчины Акима Тимофеевича Грибоедова, оспариваемой Григ. Спешневым в дер. Лариной Перевицкого стана Переславль-Рязанского уезда).
Думается, что дьяк Фёдор даже и не вспоминал об этих 20 четвертях земли, оставшихся ему после отца или, что более вероятно, после его жены. А мелкопоместные дворяне Ларины и Спешнев таки дождались в 1689—1690 гг. смерти всех потомков Иоакима Грибоедова, чтобы заявить о своих претензиях.
Все вышесказанное вполне может служить вполне точным доказательством того, что Ф.И. Грибоедов не был предком А.С. Грибоедова.
Однако все-таки А.С. Грибоедов был потомком дьяка. Хотя фамилия этого дьяка была вовсе не Грибоедов. В работах Г.Д. Овчинникова была исследована линия владимирских дворян Внуковых, которые являлись предками прабабушки Александра Сергеевича Марии Кузьминичны Грибоедовой. К сожалению, Георгий Дмитриевич проследил родословие Внуковых только до Ивана Потаповича, жившего в середине XVII в. Но, как видно в книге С.Б. Веселовского «Дьяки и подьячие XV—XVII вв.», отцом Ивана Потаповича был дьяк Потап Внуков.

редкий образец русской церковной архитектуры XVII века
В 1613 г. Потап Внуков впервые появляется в документах как дьяк на Ваге, в 1615/16—1616/17 гг. дьяк с воеводами в Туле. Затем до 1621 г. дьяк Казачьего приказа, а в 1620—1621 гг. также дьяк Разбойного приказа. С 12 октября 1621 г. с кн. Юрием Яншевичем Сулешевым разбирал дворян в Шацке и Рязани, в апреле 1622 г. был послан в Казань, где был в 1622/23—1625/26 гг. В мае 1632 г. с кн. Н. Гагариным послан в Архангельск встречать немецких наемных людей, в 1630/31—1631/32 гг. дьяк Московского судного приказа, где был до декабря 1632 г. Затем до января 1634 г. дьяк Приказа сбора немецких кормов, а 19 июня 1633 г. назначен и получил наказ с боярином кн. Юрием Янышевичем Сулешевым собирать даточных людей. В 1634—1636 гг. участвовал в посольском размежевании с Литвой. С августа 1638 и до зимы 1640—1641 гг. дьяк на Двине; в 1638—1639 гг. оклад ему из Устюжской чети 80 рублей; в апреле 1641 г. дьяк в объездах по Москве. В 1638 г. дьяк Потап имел двор в Москве в районе Тверской улицы и поместья в Московском и Владимирском уездах. Помимо сына Ивана у Потапа был старший сын Матвей, который служил в 1629 г. патриаршим стольником (1629 г.), а в 1640 г. — московским дворянином.
Интересно, что Потап Внуков несколько раз в своей карьере пересекался с Гавриилом Григорьевичем Пушкиным и его сыном Григорием. Хотя эти Пушкины и не были прямыми предками А.С. Пушкина, он ими особенно гордился и вывел Гаврилу Пушкина в своем «Борисе Годунове». Именно Гаврилу имел в виду великий поэт, когда писал:
Когда Романовых на царство
Звал в грамоте своей народ,
Мы к оной руку приложили...
Грибоедовские Внуковы, несомненно, коренные владимирцы. Во вкладной книге Троице-Сергеевой лавры есть глава о вкладе Внуковых. Помимо упоминания в нем владимирского сына боярского Ивана Потаповича (т.е. прямого предка А.С. Грибоедова) есть и вклад 1578 г. Ивана Ивановича Внукова сначала по своей жене Татьяне, а затем по своему брату Юрию. Собственно вклад И.И. Внукова по брату и состоял в части сельца Сущево Владимирского уезда.
Выписка из вкладной книги Троицко-Сергеевской лавры:
«Род Внуковых (л. 598об.) 86 марта в 26 день дал вкладу Иван Иванов сын Внуков по себе и по жене своей Татьяне вотчину свою в Володимерском уезде треть деревни Вереищ со всеми угодьями в цену в 50 рублев. А данная писана в вотчинной книге. 86 го ж году Иван же Иванов сын Внуков дал вкладу по брате своем Юрье вотчину свою в Володимерском уезде полсельца Сущова з двором и с хоромы и с хлебом в земле сеяном и со всеми угодьям. А сколько в тоей вотчине крестьян и пашни и каких угодей и за сколько денег дано, того не написано. А даная писана в вотчинной книге в Володимере (л. 599) 174 году апреля в день бил челом великому государю володимерец Иван Потапов сын Внуков и искал троицкие вотчины села Харитонова на крестьянах земляново владенья и сенных покосов по крепостям на 200 рублев и по указу великого государя их велено ему Ивану на крестьянах доправитъ и того иску стряпчей Никита Болванов заплатил ему Ивану 100 рублев, а другую 100 руб¬лев поступился он Иван в дом живоначальной Троицы вкладом, и в тех поступных деньгах во 100 рублев дана ему Ивану вкладная за казенною печатью. Дело о том в приказном столе».
А ведь сельцо Сущово — одно из грибоедовских мест. Вполне возможно, что именно через Внуковых оно и досталось Грибоедовым.
Дальнейшее исследование родословия Внуковых требует отдельной работы. Но, судя по главе о дворянах Внуковых в книге И.Б. Михайловой «Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV — первой половине XVI века», владимирские Внуковы издавна, а именно с XIV—XV вв., служили детьми боярскими сначала владимирского митрополита, а затем патриарха. Служили же Внуковы со своих старинных вотчин, а затем поместий, расположенных в Крисинской волости Владимирского уезда.
В.Е. Кулаков, А.А. Максимов. Хмелита — родовая усадьба Грибоедовых

В 1929 г. в связи с 100-летием со дня смерти А.С. Грибоедова была открыта выставка в залах Государственного театрального музея имени А.А. Бахрушина в Москве. Она посвящалась жизни и творчеству выдающегося русского писателя. Среди многочисленных экспонатов выставки вряд ли привлекали к себе особое внимание несколько небольших фотографий, запечатлевших облик обветшалого усадебного дома. Скупая справка в каталоге выставки поясняла, что это усадьба Хмелита, где А.С. Грибоедов провел в юности несколько лет.
...Еще в середине прошлого века старинное родовое имение Грибоедовых заинтересовало молодого гвардейского офицера М.И. Семевского, одного из первых биографов А.С. Грибоедова и впоследствии известного русского литературоведа. Посетив в 1855 г. Хмелиту и ознакомившись там с материалами семейного архива Грибоедовых, Семевский издал свою первую работу «Несколько слов о фамилии Грибоедовых» . Интересные материалы, дающие представление о грибоедовской Хмелите начала XIX в. и о детских годах, проведенных в этой усадьбе будущим автором бессмертной комедии, мы находим в частично опубликованных Н.К. Пиксановым рукописных мемуарах В.И. Лыкошина и его сестры А.И. Колечицкой.

Хмелита — одно из древнейших сел — расположена на территории современного Вяземского района Смоленской области, примерно в 30 км к северу от Вязьмы. Первое письменное упоминание об этом селе встречается под 1683 г. в челобитной «Сеньки Фёдорова сына Грибоедова» митрополиту Сарайскому и Подольскому о разрешении построить в его вотчине, с. Хмелита, новую церковь. Однако, как явствует из писцовых книг и Грамоты царя Михаила Фёдоровича, пожалованной в 1614 г. Михаилу Ефимовичу Грибоедову, семья Грибоедовых владела потомственными землями в Труфановском стане Вяземского уезда еще в XVI в.
В XVII—XVIII вв. представители смоленской ветви семьи Грибоедовых были хорошо известны среди московского и смоленского дворянства. С именем одного из них — бригадира Фёдора Алексеевича Грибоедова — связано широко развернувшееся в середине XVIII в. в усадьбе строительство сохранившегося до наших дней архитектурного ансамбля. У Фёдора Алексеевича было пятеро детей — сын и четыре дочери. Одна из них, Анастасия Фёдоровна, была матерью автора «Горе от ума». (Отец писателя, Сергей Иванович Грибоедов, принадлежал к другому старинному роду Грибоедовых). В детские и юношеские годы будущий писатель (до окончания им Московского университета) неоднократно бывал в Хмелите, проводя здесь летние месяцы.

Хотя о времени сооружения существующего барского дома и парка не сохранилось прямых указаний, мы можем датировать его довольно определенно — периодом между 1750 и 1780 гг. В «Экономических примечаниях к плану генерального межевания Вяземского уезда Смоленской губернии», составленных не позднее 1780 г., упоминается в связи с Хмелитой о «владении лейб-гвардии капитан-поручика Фёдора Алексеева сына Грибоедова... дом господский каменный о двух этажах, с четырьмя флигелями». Это упоминание, несомненно, относится к существующему и поныне усадебному дому. Сведения о большом строительстве, которое вел Ф.А. Грибоедов в Хмелите начиная с середины XVIII в., а также стилистическая характеристика архитектуры усадебного дома, типичная для русской архитектуры середины XVIII в., подтверждают данную датировку. В этот же период в усадьбе был разбит регулярный парк, построены Казанская церковь и каменные здания служб.
Композиционным центром усадебного ансамбля в Хмелите являлся большой барский дом дворцового типа, выстроенный в архитектурных формах русского барокко. Четыре двухэтажных флигеля композиционно закрепляли по углам пространство парадного двора, расположенного перед главным, западным фасадом дома. Дальше к западу — широкие террасы партера, великолепная панорама долины р. Вязьмы.
С востока к усадебному дому примыкал регулярный парк «с глухими и открытыми аллеями», в котором размещались «два копаных пруда с саженной рыбою», а также «хорошие цветники с каменными статуями». В своей восточной части регулярный парк переходил в так называемый английский, пейзажный парк, включавший в себя естественные уголки природы с запутанными тропинками, зарослями кустарника и уютными лужайками. Систему регулярного и пейзажного парков дополняли наиболее эффектные видовые точки на окрестные пейзажи. По всей вероятности, имелись в хмелитском парке и характерные для крупных ансамблей загородных усадеб второй половины XVIII в. атрибуты садово-паркового искусства: мостики, гроты, беседки, павильоны и т.п.

С западной стороны панорама усадебного ансамбля завершалась вертикалью Казанской церкви, построенной в 1759 г. при Фёдоре Алексеевиче Грибоедове. В конце XVIII в. в селе была выстроена еще одна (ныне не существующая) каменная Алексеевская церковь «на новом кладбище».
В южной части усадебной территории сохранились каменные здания служб. Хмелитская усадьба была в XVIII в. крупным помещичьим хозяйством. В документах этого периода упоминаются конный завод с манежем при усадьбе, а также значительное число мастеровых людей различных специальностей: кузнецы, слесари, столяры, ткачи, живописцы, золотари, ружейники, каменщики и т.д. (среди этих мастеровых названы даже архитекторы).
По-видимому, на рубеже XVIII и XIX вв. между главным домом и юго-восточным флигелем была выстроена закрытая галерея. Значительно изменился в первой половине XIX в. и внешний облик усадебного дома: в это время была сбита большая часть его старого архитектурного декора и заново оштукатурены фасады, к центральной части западного фасада был пристроен громоздкий четырехколонный портик, само здание получило новое завершение в виде круглого бельведера. Уже в начале XX в. галерея и сохранившийся первый этаж юго-восточного флигеля были надстроены вторым этажом.

При исследовании хмелитского усадебного дома в 1969—1971 гг. под позднейшими наслоениями были вскрыты следы всех основных элементов его первоначального архитектурного облика, что позволило выполнить проект реставрации этого интересного памятника середины XVIII в. (проект разработан Всероссийской специальной научно-реставрационной производственной мастерской, автор проекта В.Е. Кулаков).
Двухэтажный каменный дом хмелитской усадьбы представляет собой великолепный образец здания в стиле барокко. Архитектурная трактовка его главного фасада с тремя выступающими вперед ризалитами, карнизом сложного профиля и раскрепованными фронтонами выполнена с высоким мастерством и изяществом, которыми отличаются лучшие барочные постройки в Петербурге и Москве, такие как дворец Строгановых в Петербурге (архитектор В. Растрелли) или усадьба Апраксиных-Трубецких (автор не установлен) в Москве, на Покровке (ныне ул. Чернышевского). Причудливое очертание оконных наличников, трехчетвертные колонны и другие элементы декора, сверкающие белизной на голубоватом фоне фасада, придавали архитектуре хмелитского дома живописный характер и способствовали его эмоциональному восприятию.
Со стороны парка в центре фасада располагалась парадная, овальная в плане лестница, ведущая на второй этаж. На верхнюю площадку лестницы выходила дверь большого парадного зала. Этот зал был перекрыт сводом зеркального типа, на котором была, очевидно, декоративная роспись. Планировка внутренних помещений дома сделана по обычному для сооружения данного типа принципу анфиладного размещения парадных помещений. В интерьерах дома сохранились следы лепных карнизов и облицовки стен цветным мрамором, останки печей, облицованных красочными поливными изразцами XVIII в. Кроме парадных помещений и жилых покоев (всего в доме насчитывалось более 50 комнат) здесь имелись обширная библиотека, картинная галерея, возможно, был и театр для домашних любительских спектаклей, которые устраивались в усадьбе во времена А.Ф. Грибое¬дова — дяди поэта.

Нам неизвестно имя зодчего, по проекту которого была выстроена в XVIII в. усадьба в Хмелите, но бесспорно, что это был один из талантливых архитекторов своего времени.
В 1830 х гг., после смерти А.Ф. Грибоедова, хмелитская усадьба, славившаяся раньше на всю губернию, постепенно дряхлеет. В середине XIX в. М.И. Семевский нашел усадьбу «запустелой и необитаемой». От А.Ф. Грибоедова усадьбу наследовала его дочь княгиня Варшавская. В 1869 г. усадьба была продана купцу 1 й гильдии Сипягину.
В 1918 г. в помещении усадьбы размещался «Народный дом». Не разрушенный в Великую Отечественную войну (была взорвана только церковь), ансамбль пострадал от пожара в 1950 х гг. и только в 1967 г. был поставлен на государственную охрану как памятник федерального значения.
Ныне ансамбль родовой усадьбы дворян Грибоедовых восстановлен для новой музейной жизни. Сейчас это центр единственного в мире Государственного историко-культурного и природного музея-заповедника А.С. Грибоедова «Хмелита».
С. Н. Дмитриев. «Спасшийся»: И. С. Мальцов и новые документы о тегеранской трагедии1829 г. Часть I

Заметную роль в событиях, связанных с разгромом российского посольства в Тегеране, суждено было сыграть Ивану Сергеевичу Мальцову (1807—1880), которого многие и часто называли в те годы Мальцев, первому секретарю посольства, т.е. заместителю А.С. Грибоедова. А все началось 25 апреля 1828 г., когда автор «Горя от ума» был назначен по высочайшему повелению полномочным министром Российской императорской миссии в Персии. В этот день был издан Указ Правительствующему Сенату об учреждении Российской императорской миссии и Российского генерального консульства в Персии. «К первому посту назначаем Полномочным Министром статского советника Грибоедова, и ко второму надворного советника Амбургера», — звучало в указе. Первым секретарем миссии был назначен тогда И.С. Мальцов, вторым — К.Ф. Аделунг.

Любопытно, что Грибоедов, стремившийся пополнить штат миссии профессионалами, первоначально позвал с собой в Персию в качестве первого секретаря Николая Дмитриевича Киселева (1800—1869), с которым он сблизился еще в Грузии и на переговорах в Туркманчае, где тот был одним из представителей Коллегии иностранных дел, работая в качестве редактора переводов. Киселев тоже был близок к литературе и к пушкинскому кругу и соглашался на поездку, но его не отпустил Нессельроде, заявивший: «Я берегу своего маленького Киселева для большого посольства, для Парижа». Позднее Киселев будет с сожалением вспоминать историю с этим отказом, уточняя, по свидетельству А.О. Смирновой-Россет, что министр настоял на выборе Грибоедовым И.С. Мальцова: «Граф Нессельроде велел ему взять Мальцева».
В итоге первым секретарем был утвержден именно Мальцов, «архивный юноша», служивший в Московском архиве Министерства иностранных дел и не имевший особого опыта: ему было тогда чуть больше 20 лет. Друг Пушкина С.А. Соболевский, который сам отказался от того же самого поста в миссии Грибоедова, рассказывал Н. Бергу, что это он посоветовал последнему взять с собою Мальцова, «им обоим хорошо известного за умного, ловкого, веселого и практического человека». Мальцов, как и Киселев, тоже был не лишен литературных талантов (он даже потом успел послать из Персии в «Северную пчелу» статью с описанием праздника в Тавризе в честь взятия русскими войсками Варны) и приходился племянником весьма богатому владельцу стекольных и хрустальных заводов, в том числе знаменитого завода в Гусь-Хрустальном, И.А. Мальцову. Литературовед С.С. Минчик привел в своем исследовании очень важное свидетельство, что, находясь в 1825 г. в Крыму, Грибоедов встречался и долго общался не только с И.А. Мальцовым, но и с его племянником.
По-видимому, это знакомство могло повлиять на приглашение И.С. Мальцова в Персию. Кроме того, Грибоедов считал немаловажным для себя завязать более тесные отношения с дядей дипломата, учитывая созревавший тогда у поэта интерес к созданию «Российской Закавказской компании».
Так в составе посольства оказался юноша, который один из немногих спасется во время тегеранской трагедии, проявив, правда, себя не самым лучшим образом. Его потом многие будут обвинять в трусости и предательстве, желании спасти «свою шкуру», а не драться вместе со всеми до конца.
Приведем очень характерное замечание на этот счет того самого Н.Д. Киселева, который не поехал в Персию и, узнав о тегеранской трагедии, сказал А.О. Смирновой-Россет: «Знаешь ли ты, что Грибоедов меня очень любил и просил меня у Нессельроде, но граф дал ему Мальцева». «Я бросилась ему на шею, — писала Смирнова, — и сказала ему: «Мой ангел, ты мог быть убит». — «Неизбежно! Я бы не прятался так подло, как Мальцов, я бы дал себя изрубить, как Грибоедов, во-первых, потому, что я его люблю, и еще потому, что это значило умереть на посту, как часовой».
Неизвестно, смог бы Киселев чем-либо помочь Грибоедову и русской миссии, если бы он попал все-таки в Персию. Но то, что он не испугался бы в ходе нападения, не вызывает сомнений. В период пребывания Грибоедова в Петербурге в 1828 г. Киселев тоже подружился с Пушкиным, который после отъезда того на дипломатическую службу в Европу в 1828 г. написал стихотворение «Н.Д. Киселеву»:
Ищи в чужом краю здоровья и свободы,
Но Север забывать грешно,
Так слушай: поспешай карлсбадские пить воды,
Чтоб с нами снова пить вино.
А Киселева, спасшегося от персидской угрозы, далее ждала головокружительная дипломатическая карьера: до 1837 г. он был секретарем при посольстве в Париже, затем до 1840 г. состоял поверенным в делах в Великобритании, а после этого в течение 10 лет был российским поверенным в делах во Франции, находясь в самом центре европейской политики. Последние 15 лет жизни он был посланником России при римском, тосканском дворах и при короле Объединенной Италии. На этом примере можно увидеть, что могло бы ждать Грибоедова, избери он для своего дипломатического поприща не Персию, а Европу или США. И каких карьерных достижений он смог бы еще достичь в будущем, как это сделали Киселев или Горчаков. Но судьбе было угодно распорядиться по-другому.
Биограф Грибоедова Е.Н. Цимбаева утверждала, что на назначение Мальцова в Персию повлияло то, что Николай I якобы ухаживал за «почти помолвленной» с ним выпускницей Смольного института фрейлиной Александрой Россети (Россет). По-видимому, император хотел удалить Мальцова подальше. Но так ли было на самом деле? Позволим себе в этом усомниться, тем более что в книге Цимбаевой, что весьма удивительно для книг серии «ЖЗЛ», вообще отсутствуют какие-либо сноски на источники.
После назначения состава миссии прошло почти полтора месяца, когда Грибоедов и его заместители договорились, как они будут добираться до места назначения. К.Ф. Аделунг, который оставил после себя несколько очень интересных писем к отцу, 11 июня 1828 г. сообщил в очередном письме о договоренностях, достигнутых на встрече новых сотрудников с посланником: «Наш маршрут изменен; мы едем через Харьков и Новочеркасск в Ставрополь, где мы встретимся с Грибоедовым и дальше поедем вместе с ним. Мальцев (нередко фамилию Мальцова сослуживцы меняли на Мальцева. — С. Д.) проведет полдня в имении своего дяди; где буду я в это время, я еще не знаю, я буду ждать его в ближайшем городе; у меня нет охоты ехать вместе с ним, в особенности на такое короткое время (отношения между двумя советниками с первых дней не заладились и потом не выходили за рамки деловых отношений. — С. Д.)... Только что выяснилось, что я расстаюсь с Мальцевым в Калуге и встречусь с ним в Орше». И наконец, 12 июня уже из Калуги, Аделунг сообщал: «Вчера, в 8 часов вечера, мы выехали из Москвы, где мы задержались у Грибоедова; в Ставрополе мы опять встретимся с ним; не могу передать, как я этому рад; чем ближе я его узнаю, тем больше я его ценю и люблю».

работы Джорджа Доу.
Военная галерея Зимнего дворца,
Государственный Эрмитаж (Санкт-Петербург)
Как видим, Аделунг с первых встреч был очарован Грибоедовым. Далее он встретился с Мальцовым в Орле, потом через Харьков они торопились прибыть в Ставрополь, чтобы не заставить ждать их там Грибоедова, однако им самим пришлось прождать там поэта около трех суток, так как он задержался и прибыл туда только 26 июня рано утром. Далее последовал путь до Тифлиса, откуда Грибоедов должен был как можно быстрее добраться до действующей армии к генералу Паскевичу для доклада и согласования дальнейших действий. 13 июля он с И.С. Мальцовым выехали из Тифлиса к Паскевичу, но их ждала неудача. Вот как сообщал о ней Грибоедов в писавшемся урывками письме к Ф.В. Булгарину от 24 июля — 8 сентября 1828 г.:
«Чума, которая начала свирепствовать в действующем отряде, задержала меня на месте, от Паскевича ни слова, и я пустился к нему наудачу. В душной долине, где протекают Храм и Алгетла, лошади мои стали, далее, поднимаясь к Шулаверам, никак нельзя было понудить их идти в гору, я в реке ночевал, рассердясь, побросал экипажи, воротился в Тефлис, накупил себе верховых и вьючных лошадей, с тем, чтобы тотчас пуститься снова в путь, а с поста казачьего отправил депешу к Графу, чтобы он мне дал способы к нему пробраться; уведомил его обо всем, о чем мне крайне нужно иметь от него сведения, если уже нельзя нам соединиться, и между тем просил его удержать до моего приезда Мирзу Джафара, о котором я слышал, что к нему послан из Табриза».
Далее последовала повторная поездка к Паскевичу, на этот раз удачная, но итогом ее стало то, что и Мальцов, и Грибоедов заболели «желтой лихорадкой», вызванной тяжелым климатом кавказской жары в самый пик лета. По-видимому, свою роль сыграло то, что Ахалкалаки, куда ездили Грибоедов с Мальцовым, лежат на высоком нагорье, продуваемые ветрами со снежных вершин и частыми дождями, но главное заключалось в том, что вблизи Тифлиса находилось много заболоченных мест, откуда то и дело выползала «болотная лихорадка», как ее называли врачи, или малярия. Особенности этой болезни заключались в том, что сильнейший жар, как правило, сменялся сильнейшим ознобом, припадок мог длиться не более нескольких часов, и все зависело от силы организма: выдержит он такой удар или нет? Никаких особых лекарств от лихорадки тогда не было, надеяться приходилось только на природную выносливость и ждать... новых припадков, которые могли повторяться вновь через несколько дней и потом возвращаться опять.
 Между тем Грибоедов посватался к Нине Чавчавадзе, вскоре последовала их свадьба, во время которой поэт еле держался на ногах от болезни. И.С. Мальцов и П.Д. Завелейский были на свадьбе свидетелями. Для молодого дипломата эта миссия показалась особо почетной. После венчания в Сионском соборе все гости отправились на снятую Грибоедовым новую квартиру, где состоялся ужин. Грибоедов был все время в лихорадке. По свидетельству Д.Ф. Харламовой, «лихорадка не покинула его до свадьбы, даже под венцом она трепала его, так что он даже обронил обручальное кольцо...».
Между тем Грибоедов посватался к Нине Чавчавадзе, вскоре последовала их свадьба, во время которой поэт еле держался на ногах от болезни. И.С. Мальцов и П.Д. Завелейский были на свадьбе свидетелями. Для молодого дипломата эта миссия показалась особо почетной. После венчания в Сионском соборе все гости отправились на снятую Грибоедовым новую квартиру, где состоялся ужин. Грибоедов был все время в лихорадке. По свидетельству Д.Ф. Харламовой, «лихорадка не покинула его до свадьбы, даже под венцом она трепала его, так что он даже обронил обручальное кольцо...».
Грибоедов, несмотря на свадебные дела, постоянно занимался в Тифлисе делами миссии, и помощником в этом постоянно выступал Мальцов, который, кстати, отвечал за всю бухгалтерию посольства. Известно, например, что это именно он, согласно документам Министерства финансов, получил на содержание миссии 6567 червонцев в виде золотых монет «весом 1 пуд, 15 фунтов, 84 золотника, 78 долей и 7 рублей 41 копейку ассигнациями». Больше пуда чистого золота! В этой связи понятным становится, почему, требуя в это время контрибуцию у Персии, российская сторона настаивала на ее выплатах именно туманами — золотыми монетами персидского двора!..
Однако выделенных денег Грибоедову и миссии постоянно не хватало, поэт и на вершине своего общественного положения был постоянно стеснен в средствах. Он был вынужден не раз занимать тогда деньги. Интересно, что 15 тысяч рублей Грибоедов получил в то время через своего друга Булгарина именно от И.А. Мальцова, дяди секретаря поэта, с которым Грибоедов познакомился в Крыму еще в 1825 г. К началу декабря 1828 г. все хлопоты по делам миссии и набору в нее сотрудников были завершены. То, как серьезно и вдумчиво Грибоедов подходил к формированию штата своей миссии, сыграет важную роль в событиях в Тегеране в январе 1829 г.
Забегая вперед, укажем, что кроме его секретаря И.С. Мальцова, струсившего и смалодушничавшего в самом начале разгрома посольства и избежавшего поэтому смерти, а также двух курьеров (один из них, правда, геройски боролся с нападавшими) все сотрудники русской миссии, включая прислугу и казаков, вступили в неравный бой с обезумевшей толпой, дрались до последнего и были убиты вместе с их начальником!
9 декабря 1828 г. вместе с поэтом и его женой Ниной в дальний путь к Тавризу отправилось более 50 человек, входивших в состав миссии, в том числе чиновники миссии — Грибоедов, Мальцов, Аделунг — первый и второй секретари посольства, врач Мальмберг, переводчики Шахназаров, Василий Дадашев, который служил до этого в Персии в Реште, чиновник Соломон Кобулов, Рустам-бек — заведующий прислугой, конвой из 16 кубанских казаков и около 30 человек прислуги, пестрых по своему составу, среди них были и русские, и армяне, и грузины, и мусульмане.
С. Н. Дмитриев. «Спасшийся»: И. С. Мальцов и новые документы о тегеранской трагедии1829 г. Часть II

Не будем описывать то, что происходило во время пребывания миссии в Тавризе, а перенесемся сразу в Тегеран, где поначалу все происходило просто замечательно. В своем донесении к Паскевичу, написанном 18 марта 1829 г. из Нахичевани, Мальцов следующим образом описал блистательный прием российской миссии в Тегеране. Кстати, он сознался в этом письме, что не писал ранее Паскевичу потому, что находился под караулом и «не имел при себе цифири и, следовательно, не мог вверить бумаг своих какому-нибудь персидскому курьеру». Под цифирью дипломат имел в виду код для расшифровки секретной переписки, которым активно пользовались русские дипломаты в обстановке постоянной слежки за ними и их перепиской:
«В Тегеране посланник наш был принят с такими почестями, которых никогда не оказывали в Персии ни одному европейцу. После первой аудиенции у шаха, при которой соблюдены были все постановления существующего церемониала, и великолепных угощений, деланных нам, по приказанию шаха, тамошними вельможами, посланник имел приватную аудиенцию у его высочества. Шах обошелся с ним весьма ласково; говорил ему: «Вы мой эмин, мой визирь, все визири мои ваши слуги; во всех делах ваших адресуйтесь прямо к шаху, шах вам ни в чем не откажет» — и много подобных вежливостей, на которые персияне щедры в обратной пропорции скупости своей на все прочее.
Все, что посланник требовал, было без огласительства исполнено, а именно: последовал строжайший фирман на имя Яхья-Мирзы, воспрещающий в Реште все притеснения, делаемые там нашим промышленникам, о которых ваше сиятельство изволили писать к посланнику, и таковый же на имя казвинского шахзаде (принца крови, сына шаха. — С. Д.), повелевающий ему освободить всех пленных, находящихся в доме бывшего сердаря эриванского Хусейн-шаха. Шах прислал посланнику подарки и орден Льва и Солнца 1-й степени, а прочим чиновникам тот же орден 2-й и 3-й степени. Грибоедов собрался ехать в Тавриз, а для сношения с министерством шаха и для представления его высочеству подарков от нашего двора оставлял меня в Тегеране; он имел прощальную аудиенцию у шаха; лошади и катер были готовы к отъезду, как вдруг неожиданный случай дал делам нашим совсем иной оборот и посеял семя бедственного раздора с персидским правительством».

Злополучные подарки, выделенные для персидского двора, все еще находились в пути до Тегерана, и их отсутствие не могло не вызывать раздражения шаха и его чиновников. Однако 21 января (27 е число месяца реджеб), всего лишь за 9 дней до трагедии, когда скорый отъезд российской миссии из Тегерана был окончательно назначен, когда в посольство были привезены подарки от Фетх-Али-шаха (Мальцов, кстати, получил тогда орден Льва и Солнца 2-й степени с алмазами и две шали), случился новый роковой поворот в судьбе поэта, который изначально таковым совсем и не представлялся. Тогда произошло то самое событие, которое стало основным поводом, но отнюдь не причиной разыгравшейся драмы. Как вспоминал Мальцов, «вдруг неожиданный случай дал делам нашим совсем иной оборот и посеял семя бедственного раздора с персидским правительством».
Эти слова содержались в первом из посланий Мальцова Паскевичу, которые он написал, уже находясь на российской территории, в Нахичевани, 18, 21 и 23 марта 1829 г. и которые были отправлены с описанием событий, происходивших в Тегеране как раз после этого самого «неожиданного случая». Начал свои донесения Мальцов следующими словами:
«Наконец достиг я до границы нашей и могу иметь честь донести вашему сиятельству об участи российского посольства, при персидском дворе находившегося. Доселе не имел я никакой возможности исполнить сию обязанность, ибо в Тегеране был содержим, в продолжение 3-х недель, под караулом и потом с конным конвоем провожаем до самой границы».
Данные донесения Мальцова, как мы уже отмечали, являются важнейшим источником для понимания тегеранской трагедии, но они имеют и существенные недостатки, которые следует учитывать при их анализе.
1. В них описываются, причем в довольно беглом виде, лишь события с 21 января, без рассказа о предыдущих событиях. 2. В трактовке того, что происходило накануне трагедии, Мальцов слишком односторонне и упрощенно видит причины случившейся драмы. 3. Самое главное, что непосредственные события разгрома посольства, в силу того, что Мальцов, спасая свою жизнь, укрылся при помощи подкупленных персиян в одном из помещений, он видеть просто не мог и описывал их во многом со слов различных персидских чиновников. 4. Во всех объяснениях Мальцова бросается в глаза его желание обелить себя и свое фактическое предательство товарищей, что не могло не искажать его взгляд на происходившее.

второй шах Ирана династии Каджаров,
правил с 1797 по 1834
Вот как описал первый секретарь русской миссии тот самый роковой поворот 21 января:
«Некто Ходжа-Мирза-Якуб, служивший более 15 лет при гареме шахском, пришел вечером к посланнику и объявил ему желание возвратиться в Эривань, свое отечество. Грибоедов сказал ему, что ночью прибежища ищут себе только воры, что министр российского императора оказывает покровительство свое гласно, на основании трактата, и что те, которые имеют до него дело, должны прибегать к нему явно, днем, а не ночью. Мирза-Якуб был отослан с феррашами в дом свой, с уверением, что персияне не осмелятся сделать ему ни малейшего оскорбления.
На другой день он опять пришел к посланнику с тою же просьбою; посланник уговаривал его остаться в Тегеране, представлял ему, что он здесь знатный человек, занимает второе место в эндеруне (внутренние покои у мусульман. — С. Д.) шахском, между тем как у нас он совершенно ничего значить не может, и т.п.; но усмотрев твердое намерение Мирзы-Якуба ехать в Эривань, он принял его в дом миссии, дабы вывезти с собою в Тавриз, а оттуда, на основании трактата, отправить в Эривань. Грибоедов послал человека взять оставшееся в доме Мирзы-Якуба имущество, но когда вещи были уже навьючены, пришли ферраши Манучехр-хана, которые увели катеров и вьюки Мирзы-Якуба к своему господину».
Грибоедов действовал в этом, как и в других подобных случаях, очень осторожно и в полном соответствии с упоминавшейся выше инструкцией, написанной им самим и адресованной российскому посланнику, в которой отмечалось: «Если... невинный будет тесним и угрожаем казнию... то в таком случае вооружитесь всею торжественностию помянутого Акта (Турманчайского трактата. — С. Д.) для чести русского имени и в защиту угнетаемого просителя». Грибоедов не мог без гарантий безопасности выдать Мирзу-Якуба, учитывая, что тот лично и неоднократно изъявил свое желание вернуться в Эривань. И он это делал, понимая всю опасность создававшейся ситуации.
Показательно, что еще в той же инструкции, написанной в Петер¬бурге, он предупреждал, что оказание помощи пленным чревато осложнениями: вы «должны иметь в виду, что чужестранное влияние в домашних делах государства всегда ненавистно и вас могло бы поставить в самое неприятное положение». Грибоедов здесь опять выступил провидцем, он как в воду глядел, когда писал свою инструкцию.
В ловушку преувеличения роли евнуха в происходивших событиях и его якобы бесценной информации о персидских тайнах попался и Мальцов, который фактически в своих донесениях представил историю с евнухом как главную причину разгрома посольства. Послушаем первого секретаря, описавшего, что последовало далее:
«Шах разгневался; весь двор возопил, как будто бы случилось величайшее народное бедствие. В день двадцать раз приходили посланцы от шаха с самыми нелепыми представлениями; они говорили, что ходжа (евнух) — то же, что жена шахская, и что, следовательно, посланник отнял жену у шаха из его эндеруна. Грибоедов отвечал, что Мирза-Якуб, на основании трактата, теперь русский подданный и что посланник русский не имеет права выдать его, ни отказать ему в своем покровительстве. Персияне, увидев, что они ничего не возьмут убедительною своею логикою, прибегли к другому средству: они взвели огромные денежные требования на Мирзу-Якуба и сказали, что он обворовал казну шаха и потому отпущен быть не может. Для приведения в ясность сего дела Грибоедов отправил его вместе с переводчиком Шахназаровым к Манучехр-хану. Комната была наполнена ходжами, которые ругали Мирзу-Якуба и плевали ему в лицо. «Точно, я виноват, — говорил Мирза-Якуб Манучехр-хану, — виноват, что первый отхожу от шаха; но ты сам скоро за мною последуешь». Таким образом, в этот раз, кроме ругательства, ничего не последовало».
Приведем теперь сведения о развитии событий Мальцова, которые доказывают, что четкая логика представителей русской миссии, их опора на законные основания Туркманчайского договора и стремление разрешить конфликт мирно убеждали в их правоте даже главного евнуха Манучехр-хана, что из создавшегося положения был мирный выход и что история с евнухом была скорее предлогом для разгрома посольства, а не его истиной причиной:
«Шаху угодно было, чтобы духовный суд разобрал дело; посланник на это согласился и отправил меня, чтобы я протестовал в случае противузаконного решения. С Мирзой-Якубом и переводчиком приехал я в дом шаро (духовного суда) и объявил Манучехр-хану, что буде кто-либо позволит себе по-прежнему какое-нибудь ругательство в моем присутствии, то я этого не стерплю, кончу переговоры, уведу с собой Мирзу-Якуба и они более его никогда не увидят; что я, со своей стороны, ручаюсь ему, что Мирза-Якуб также не скажет никому обидного слова. «Мирза-Якуб должен казначею шахскому несколько тысяч туманов, — сказал мне Манучехр-хан. — Неужели теперь эти деньги должны пропасть?» Я отвечал ему, что Мирза-Якуб объявил посланнику, что он никому не должен здесь гроша и что, следовательно, должно представить законные документы, и буде есть действительные векселя, то есть засвидетельствованные в свое время у хакима, он принужден будет удовлетворить Зураб-хана. «Таких документов нет, но есть расписки, свидетели». — «На основании трактата, — сказал я, — известно вашему высокостепенству, что такие расписки и словесные показания, буде сам должник не признает их справедливыми, в денежных делах не имеют никакой силы; точно, Мирза-Якуб получал деньги от Зураб-хана, но он был казначеем в эндеруне и имел от шаха различные поручения, на каковые и издерживал получаемые деньги. Он говорит, что может это доказать имевшимися в его доме бумагами и расписками; но ваше высокостепенство послали людей своих, которые силою проникли в его дом, когда он уже находился под покровительством нашей миссии, которые унесли вещи, увели катеров и лошадей его, а может быть, и выкрали означенные бумаги; вам следовало описать вещи и бумаги в присутствии русского чиновника, а не насильственно и самовольно захватить все, что попало, и, следовательно, вся ответственность за нарушение прав русского подданного падает на вас; каким образом суд может приступить к справедливому решению, когда Зураб-хан имеет при себе документы, между тем как бумаги Мирзы-Якуба у него отобраны и, может быть, уже уничтожены». — «Хорошо, — сказал Манучехр-хан, — но в трактате вовсе нет того, что вы говорите». В ответ ему я приказал переводчику прочесть некоторые отмеченные мною статьи коммерческой конвенции, и все присутствовавшие по выслушании оных остолбенели от удивления. «Если так, — сказал Манучехр-хан, — то духовного суда по этому делу быть не может; пусть все останется как есть».
Дело принимало опасный оборот, и понимавший это Грибоедов вынужден был напроситься на аудиенцию у шаха, которая, однако, привела лишь к одному итогу: по свидетельству Мальцова, «на другой день посланник был у шаха и согласился на предложение его высочества разобрать дело Мирзы-Якуба с муэтемедом (муэтемид-эд-доуле, что значит «опора правительства», — такой титул носил тогда Абдул-Вехаб, а в 1829 г. после его смерти этот титул стал носить Манучехр-хан. — С. Д.) и с Мирза-Абул-Хасан-ханом; но сие совещание отлагалось со дня на день до тех пор, пока смерть посланника и Мирзы-Якуба сделали оное невозможным».
А теперь обратимся к истории с женщинами, о которых доложили мудштехиду, главному духовному лицу Тегерана, Мирзе-Месиху, что они «насильно удерживаются» в русской миссии и что их «принуждают будто бы отступиться от мусульманской веры».
Сразу подчеркнем, что эта тема до сих пор усилиями критиков Грибоедова, будь то персидские, английские или некоторые российские историки, считается чуть ли не главнейшей в объяснении тегеранской трагедии. По своему опыту общения с иранскими жителями во время поездок по Ирану могу сказать, что именно женщины из гарема называются там основной причиной вспыхнувших в 1829 г. беспорядков и гибели Грибоедова.
Попробуем разобраться, так ли было на самом деле. Сначала представим слово Мальцову, сразу расставившему все точки над «i»:
«Между тем посланник прилагал неусыпное старание об освобождении находившихся в Тегеране пленных. Две женщины, пленные армянки, были приведены к нему от Аллах-Яр-хана. Грибоедов допросил их в моем присутствии, и когда они объявили желание ехать в свое отечество, то он оставил их в доме миссии, дабы потом отправить по принадлежности.
Впрочем, это обстоятельство так маловажно, что об оном распространяться нечего. С персидским министерством об этих женщинах не было говорено ни слова, и только после убиения посланника начали о них толковать. Я это представил в Тавриз каймакаму, утверждавшему, что женщины были главной причиной убиения посланника. «Ваше высокостепенство, — сказал я ему, — имеете в руках своих всю переписку посланника с тегеранским министерством; там много говорено о Ходжа-Мирзе-Якубе, но есть ли хотя одно слово о женщинах?» — «Точно, о женщинах нигде не упоминается, но они были удержаны вами насильственно против своей воли». — «Смею уверить вас, — отвечал я ему, — что при мне объявили они посланнику желание возвратиться в свое отечество, а лучшим доказательством, что посланник никогда насильно не брал тех, которые не имели желание отсюда ехать, может служить происшествие, известное вам, которому весь Казвин был свидетелем. Там находились в доме одного сеида две женщины, из коих одна армянка, а другая — немка, из прилежащих к Тифлису колоний. Они были приведены к посланнику, и когда объявили, что желают остаться в Казвине, то немедленно же были отпущены к сеиду».
Замечание Мальцова о несущественности данного вопроса особенно важно, ведь обвинения Грибоедова в том, что одной из причин разгрома миссии являлось некое осквернение и насильное отторжение от мусульманства женщин из гарема Аллаяр-хана, звучат в Персии, да и в России до сих пор. Как живуча может быть ложь, если она кому-то очень и очень выгодна! Грибоедов действовал в рамках договора, и, узнав о желании женщин вернуться, он взял их под свое покровительство. А история в Казвине, когда две женщины, наоборот, не захотели уезжать и были оставлены в Персии, подтверждает строгое следование Грибоедовым условиям д¬оговора.
С. Н. Дмитриев. «Спасшийся»: И. С. Мальцов и новые документы о тегеранской трагедии1829 г. Часть III
С. Н. Дмитриев. «Спасшийся»: И. С. Мальцов и новые документы о тегеранской трагедии1829 г. Часть III

Напомним читателям, что процесс освобождения русских пленных начался в Персии сразу после заключения Туркманчайского договора, и весьма показателен факт, что сам Фетх-Али-шах в 1828 г. освободил из своего гарема нескольких женщин, чтобы доказать свою приверженность договоренностям. Грибоедов еще в бытность свою в Тавризе уговорил Аббас-Мирзу попросить шаха о содействии в процессе возврата пленных. Последовал приказ шаха Манучехр-хану и полицмейстеру Тегерана, обязывавший их направлять своих людей за пленниками в случае указания русскими на их местожительство, а после публичного опроса пленных и подтверждения ими желания возвратиться на родину обязательно передавать их под защиту посольства (или родственникам, если они находились в Персии).
Однако это распоряжение лишь привело к принятию иранскими вельможами новых мер к укрытию русских пленных. Их стали переводить из одного места в другое и даже высылать из Тегерана, а многие женщины по-прежнему продолжали удерживаться в тиши персидских гаремов.
Дальше последовали события, которые, если их суммировать, прекрасно показывают, что в Тегеране случился не стихийный, бесконтрольный бунт черни, а четко спланированная операция по уничтожению русской миссии. Преступление, выглядевшее внешне как разгул стихии, на самом деле было хладнокровно и обдуманно подготовлено.
Эскалация напряженности нарастала вокруг миссии не один день. Приведем слова Амбарцума (Ибрагим-бека) — курьера российского посольства, что «каждый день на базаре мы слышали, как муллы в мечетях и на рынках возбуждали фанатический народ, убеждая его отомстить, защитить ислам от осквернения «кяфиром». По свидетельству этого курьера, предупреждения об опасности Грибоедов воспринимал с усмешкой, однако сам Амбарцум опроверг такой вывод, когда привел следующий факт: «По настоянию наших казаков и телохранителей он только один раз обратился к шаху и заявил о возбуждении народа. Шах просил быть покойным, говоря, что никто не осмелится ничего сделать». Обращение к шаху было самым действенным способом реагирования на ситуацию, и поэтому в бездействии Грибоедова обвинять никак нельзя.
Далее в своем рассказе Амбарцум привел очень важные факты: «В 1829 г. в последних числах января, волнение и возбуждение в городе постепенно увеличивались; шах со своими приближенными и своим гаремом выехал из города и поехал в одну из близлежащих деревень.
Мы — курьеры и казаки — постоянно держали наготове наши ружья и пистолеты, но посол считал невозможным какое бы то ни было нападение на посольский дом, над крышей которого развевался русский флаг».
Заметим, что на самом деле в день штурма шах был в Тегеране, а имитация им и его приближенными отъезда из Тегерана может лишь еще раз подтвердить причастность шаха к последовавшему вскоре разгрому. В эти дни Мирза-Месих и его сподвижники действительно развернули бурную деятельность по распространению в городе слухов и обвинений в адрес русской миссии, заявляя, что Мирза-Якуб предал мусульманскую веру, что «он изменник, неверный и повинен в смерти», что удержание его и женщин из гарема в российском посольстве требует наказания «кяфиров».
В своих донесениях Паскевичу Мальцов также сообщал о предупреждениях Грибоедову о нависающей над миссией угрозе, которые делали некоторые персидские чиновники, но при этом он, ссылаясь на позицию подкупленного якобы Мирзой-Якубом переводчика Шахназарова и свое незнание фарси, сообщал, что вообще ничего не знал о происходившем в городе. Позволим себе усомниться в этом, раз о происходивших вокруг событиях говорили все подряд — и курьеры, и казаки, и прислуга.
Мальцов в данном контексте оправдывает самого себя и взваливает вину именно на Шахназарова. Мы уже отмечали, что факт подкупа этого переводчика евнухом мог иметь место, но совершенно маловероятно, чтобы офицер, штабс-капитан Шахназаров мог ради обещанной ему будущей награды в 500 червонцев фактически встать на сторону заговорщиков, не сообщая посланнику ничего о том, что происходило в городе. О нечистоплотности и жадности сотрудника посольства говорить, без каких-либо четких доказательств, еще предположительно можно, но о предательстве человека, который на следующий день погиб во время штурма с оружием в руках (в отличие от того же «хитрого» и изворотливого Мальцова), говорить не приходится. Вот что непосредственно написал об этом Мальцов:
«Несколько дней после убиения посланника Мирза-Мехти, человек очень умный и уважаемый покойным г. Грибоедовым, уверял меня, что он за три дня уведомил его о том, что муллы возмущают народ против русских и что он будет находиться в величайшей опасности, если не выдаст немедленно Мирзу-Якуба; но посланник, вероятно, почел этот совет одною хитростию, острасткою, которою хотели у него выманить Мирзу-Якуба, и потому оставил без внимания, в уверенности, что правительство, после столь дорого купленного им мира с Россиею, не осмелится оскорбить сию сильную державу в лице ее посланника. Не зная ни персидского, ни татарского языка, я мог получить известие или от самого посланника, или от переводчика нашего Шахназарова, который, по уверениям персиян, был подкуплен Мирзой-Якубом, принял от него некоторые подарки и взял сверх того обещание, что если он вывезет благополучно Мирзу-Якуба из Персии, то получит от него за труды 500 червонных. Вот почему не допускал он до меня никаких слухов о том, что приготовлялось в городе, ибо знал, что я немедленно уведомил бы посланника, который, усмотрев невозможность держать далее Мирзу-Якуба, может быть, выдал бы его, отчего и пропали бы обещанные им Шахназарову 500 червонных».
Незнанию Мальцова о происходившем в городе противоречит тот важный факт, что именно ему Грибоедов, понимая всю опасность сложившейся ситуации (а значит, он прекрасно знал о том, что вызревало вокруг русской миссии!), продиктовал ноту, адресованную министру иностранных дел Персии Абул-Хасан-хану Мухаммад Афшару, который, напомним, ежегодно получал содержание в размере 1500 туманов от Ост-Индской компании на протяжении почти 37 лет (с 1809 по 1846 г.):
«Из одной ноты к Мирзе-Абул-Гассан-хану, которую посланник велел мне написать вечером, накануне своего убиения, я должен заключить, что точно он не почитал себя в совершенной безопасности. Шах был очень сердит на посланника, говорил ему: «Продолжайте, отнимите у меня всех жен моих; шах будет здесь молчать, но Наиб-султан (Аббас-Мирза. — С. Д.) едет в Петербург и будет лично на вас жаловаться императору». В вышеупомянутой ноте в сильных выражениях были изложены поступки (т.е. объяснения поступков) г. Грибоедова, с самого приезда в Персию; она заключалась, между прочим, следующими словами: «Нижеподписавшийся, убедившись из недобросовестного поведения персидского правительства, что российские подданные не могут пользоваться здесь не только должною приязнью, но даже и личною безопасностью, испросит у великого государя своего всемилостивейшее позволение удалиться из Персии в российские пределы». На другой день утром ужасным образом объяснились мне сии слова».
По всей видимости, слова угрозы Грибоедову, что Фетх-Али-шах пошлет своего сына в Петербург для жалобы на посланника императору, прозвучали на той самой последней аудиенции Грибоедова у шаха по поводу истории с Мирзой-Якубом. А это значит, что по крайней мере за несколько дней до трагедии посланнику ясна была назревавшая угроза и его требование в упомянутой ноте о соблюдении «личной безопасности» сотрудников миссии и возможности в противном случае прекратить ее работу в Персии следует расценивать как очень резкое требование к тегеранским властям взять ситуацию под свой контроль. По крайней мере, мы точно знаем, что нота Грибоедова была доставлена ее адресату поздно вечером накануне штурма, и это еще раз подтверждает тот непреложный факт, что персидские власти знали о готовящейся трагедии.
Этот же весьма существенный факт подтвердил в своих донесениях и Мальцов, справедливо сославшись на особенности местных обычаев:
«Персидское правительство говорит, что оно нисколько не участвовало в убиении нашего посланника, что оно даже ничего не знало о намерении муллов и народа; но стоит только побывать в Персии, чтобы убедиться в нелепости сих слов. Многие из персидских чиновников уверяли меня, что они еще за три дня предуведомляли посланника об угрожавшей нам опасности.
В Персии секретных дел почти нет: среди важных прений о государственных делах визири пьют кофе, чай, курят кальяны; их многочисленные пишхадметы (слуги. — С. Д.) должны всегда находиться при них в комнате; визири рассуждают громогласно, при открытых окнах — толпы феррашей, стоящих во дворе, слышат слова их и через два часа разносят по базару. Как же могло персидское правительство не знать ни слова о деле, в котором участвовал целый Тегеран? Муллы проповедовали гласно в мечетях; накануне были они у шахзады Зилли-султана (сына шаха, губернатора Тегерана. — С. Д.); накануне велели запирать базар, и есть даже слухи, что во время убиения посланника нашего муджтехид Мирза-Месих сидел у шаха.
Положим даже, что и не шах, а муллы послали народ в дом нашей миссии; но и тогда шах виноват: зачем допустил он это? Если бы он решительно не хотел, чтобы народ вторгнулся в наш дом, то мог бы приставить сильный караул, который остановил бы чернь пулями и штыками, мог ночью перевести посланника и чиновников во дворец или, наконец, известив г. Грибоедова о возмущении народном, просить его удалиться ночью, на короткое время, из Тегерана в какую-нибудь загородную дачу: но тогда уцелел бы Мирза-Якуб, а этого-то именно и не желал Фет-Али-шах.
Вот так, по моему мнению, произошло все дело. Шах испытал все меры, чтобы удержать Мирзу-Якуба, сперва убеждениями, просьбами, потом ложными денежными претензиями, наконец, гневом и угрозами: ничто не удалось ему. Шаху надобно было истребить сего человека, знавшего всю тайную историю его домашней жизни, все сплетни его гарема: пока посланник был жив, этого сделать никто не мог. Послать сарбазов, которые отобрали бы силою Мирзу-Якуба и убили его, шах не смел, ибо это было бы явное нарушение с его стороны мирного трактата, за который заплатил он 8 куруров; ему сказали: «Народ вторгнется в дом посланника, убьет Мирзу-Якуба, а мы притворимся испуганными, велим запереть ворота дворца, пошлем Зилли-султана и визиря унимать чернь, пошлем сарбазов, без патронов, которым не велим никого трогать, и скажем, мы ничего не знали, это все сделал проклятый народ, мы тотчас послали вспомоществование, но, к сожалению, злодейство уже было совершено», — одним словом, все то, что шах говорит и пишет в свое оправдание. Шаху не оставалось другого способа истребить Мирзу-Якуба, и потому прибегнул к оному, что надеялся отделаться от нас своими обыкновенными отговорками» .
Данное высказывание Мальцова принципиально важно, и мы можем сделать из него несколько существенных выводов:
1. Благожелательно настроенные к русской миссии персидские чиновники действительно предупреждали Грибоедова и миссию об угрожавшей им опасности.
2. О нарастании конфликта и вызревании трагедии в силу того, что «в Персии секретных дел почти нет», знал «целый Тегеран» и, конечно, прекрасно знали представители власти.
3. Проповедь и призывы к разгрому посольства велись в мечетях и на базарах совершенно открыто.
4. Муллы и ахунды накануне трагедии были у губернатора Тегерана Зилли-султана, которому подчинялись все войска и стражники в городе и который мог бы спокойно, если бы этого захотел, предпринять заранее шаги к предотвращению драмы.
5. Путей к спасению ситуации у властей Тегерана было действительно много — от привлечения для защиты посольства войск до временного перемещения сотрудников миссии в любое безопасное место.
6. Самый вопиющий факт: во время штурма миссии главный подстрекатель мятежа Мирза-Месих... находился в покоях Фетх-Али-шаха! Значит, шах никуда не уезжал и фактически непосредственно участвовал в совершении заговора.
7. Мальцов четко уловил ту логику оправдания шахской власти, которую ее представители действительно стали использовать сразу после трагедии, доказывая, что они «ничего не знали», сами «испугались мятежа», заперлись во дворце, послали сарбазов на «вспомоществование», но было уже поздно: «Все сделал проклятый народ!» Как ни странно, но эти самые «обыкновенные отговорки» сработали тогда (их фактически признала за объяснение случившейся драмы высшая царская власть в России) и до сих пор срабатывают, когда речь заходит о тегеранской трагедии.
Отмечая наблюдательность и точность Мальцова в описании внешних событий накануне трагедии, отметим тем не менее, что первый секретарь русской миссии очень сильно и даже наивно упрощает причины случившейся катастрофы, сводя их к борьбе за возвращение Мирзы-Якуба или к желанию шаха «истребить сего человека». Из его рассказа полностью исчезает английский след, он ничего не говорит о борьбе внутри каджарской династии за влияние и будущий трон, не сообщает о стремлении шаха и его окружения осуществить ревизию Туркманчайского договора и, по возможности, вернуть утерянные в ходе войны с Россией территории и даже не упоминает о русско-турецкой войне, которая выступила одним из главных катализаторов конфликта в Тегеране. Он не видит заинтересованности в этом конфликте влиятельных турецких сил и их сторонников среди персидских чиновников, которые не прочь были совместно с английскими резидентами разжечь новую войну между Ираном и Россией.
Однако Мальцов был совершенно прав, указывая на психологию заговора и продуманные заранее отговорки шахской власти. Опасность просто витала в воздухе во вторник вечером 29 января (5 шаабана) накануне резни, что и заставило Грибоедова продиктовать своему заместителю ту самую гневную ноту министру иностранных дел Персии. В тот вечер все сотрудники русской миссии засыпали в тревоге, и чаша сия не могла миновать Грибоедова, не раз пожалевшего, что судьба и долг службы снова закинули его туда, где приходиться держать ухо востро.
С. Н. Дмитриев. «Спасшийся»: И. С. Мальцов и новые документы о тегеранской трагедии1829 г. Часть IV

А как же начался и происходил сам штурм посольства? Процитируем вновь Мальцова, учитывая, отсутствие этого спрятавшегося от штурма дипломата в самой гуще событий (непосредственно ходу штурма Мальцов посвятил всего лишь не более двух страниц книжного текста):
«Наступило роковое 30 число января. Базар был заперт, с самого утра народ собирался в мечеть. «Идите в дом русского посланника, отбирайте пленных, убейте Мирзу-Якуба и Рустема» — грузина, находившегося в услужении у посланника. Тысячи народа с обнаженными кинжалами вторгнулись в наш дом и кидали каменья. Я видел, как в это время пробежал чрез двор коллежский асессор князь Соломон Меликов, посланный к Грибоедову дядею его Манучехр-ханом; народ кидал в него каменьями и вслед за ним помчался на второй и третий двор, где находились пленные и посланник. Все крыши были уставлены свирепствующей чернью, которая лютыми криками изъявляла радость и торжество свое. Караульные сарбазы (солдаты) наши не имели при себе зарядов, бросились за ружьями своими, которые были складены на чердаке и уже растащены народом. С час казаки наши отстреливались, тут повсеместно началось кровопролитие. Посланник, полагая сперва, что народ желает только отобрать пленных, велел трем казакам, стоявшим у него на часах, выстрелить холостыми зарядами и тогда только приказал заряжать пистолеты пулями, когда увидел, что на дворе начали резать людей наших».
Из этого повествования видно, что «с самого утра» от центральной мечети города — а она находилась тогда почти напротив шахского дворца Голестан (и при этом якобы во дворце не знали о готовящемся штурме!), — к посольству направились, как утверждал Мальцов, «тысячи народа с обнаженными кинжалами». Сразу оспорим это количество и обилие холодного оружия у наступавших на миссию: на наш взгляд, ближе к истине был автор Реляции о происшествии в Тегеране, который сообщал о 400 или 500 человек, подошедших к посольству, причем с палками и «обнаженными саблями» было всего лишь «несколько исступленных» лиц.
Важно также отметить, что, по свидетельству Мальцова, пришедшие к посольству люди стали первыми бросать в сотрудников миссии камни и быстро заняли все крыши, проходы и заборы вокруг посольства. Персидские стражники-сарбазы, «охранявшие» миссию, вообще оказались без ружей, по чьей-то странной (или, наоборот, хорошо понятной с точки зрения заговорщиков) команде заблаговременно сложенных на чердаке! Сарбазы не оказали толпе никакого сопротивления, и надеяться сотрудникам миссии можно было только на самих себя. Отметим здесь также, что погромщики заранее знали расположение всех четырех дворов миссии и их действия направлялись умелой рукой. Они сразу были нацелены на основное здание в четвертом дворе, где располагались помещения Грибоедова.
Очень существенный факт, что посланник разрешил сделать сначала лишь холостые выстрелы, надеясь, что «народ желает только отобрать пленных», а не убивать всех русских подряд. Он разрешил казакам вести боевую стрельбу только тогда, когда на дворе «начали резать наших».
Прежде чем описать дальнейшие события рокового дня, обратимся к истории спасения первого секретаря миссии И.С. Мальцова, предоставив сначала слово ему самому:
«Я обязан чудесным спасением своим как необыкновенному счастию, так и тому, что не потерялся среди ужасов, происходивших перед глазами моими. Я жил рядом с табризским мехмендарем нашим Назар-Али-ханом Авшарским, на самом первом дворе; кроме меня, русских там не было, а жили еще приставленный от шаха мехмендарь Мирза-Абул-Гуссейн-хан и караульный султан. Когда народ, с криком, волною хлынул мимо окон моих, я не знал, что думать, хотел броситься к посланнику и не успел дойти до дверей, как уже весь двор и крыши усыпаны были свирепствующею чернию. Я пошел в балахане (мезонин, комната на верхнем этаже. — С. Д.) свой, и не прошло пяти минут, как уже резали кинжалами перед глазами моими курьера нашего Хаджатура (Хачатура Шахназарова. — С. Д.). Между тем народ бросился на 2-й и 3-й двор: там завязалась драка, началась перестрелка. Увидев, что некоторые из персиян неохотно совались вперед, я дал одному феррашу моему 200 червонцев и приказал ему раздать оные благонадежным людям, ему известным, собрать их к дверям моим и говорить народу, что здесь квартира людей Назар-Али-хана. Я сидел таким образом более трех часов в ежеминутном ожидании жестокой смерти; видел, как сарбазы и ферраши шахские спокойно прогуливались среди неистовой черни и грабили находившиеся в нижних комнатах мои вещи. Неоднократно народ бросался к дверям, но, к счастию, был удерживаем подкупленными мной людьми, которые защищали меня именем Назар-Али-хана. Потом, когда уже начало утихать неистовство, пришел серхенг и приставил караул к дверям моим. Ночью повел он меня во дворец (переодетого сарбазом)».
Мальцов в своих донесениях откровенно признался, что ему удалось выжить не только благодаря «счастью», но и его способности «не потеряться среди ужасов», т.е. приспособиться, причем это свойство он проявил не только в день штурма, но и намного раньше, установив доверительные отношения со многими персидскими чиновниками, а также со стражниками-феррашами, которые и выручили его в минуту опасности. Почему Мальцов жил на «самом первом дворе», где «русских не было», рядом с мехмандаром Назар-Али-ханом, не совсем ясно: было ли это случайным обстоятельством или продуманным с его стороны действием, непонятно. В любом случае такая близость и дальнейшие события не могут не бросать тень на Мальцова и не давать повод для обвинения его то ли в невольном или вольном участии в заговоре, то ли в подлой трусости.
Мальцов признался, что при начале штурма он «не успел дойти до дверей, как уже весь двор и крыши усыпаны были свирепствующею чернию». Спрашивается, почему он в это время был не со всеми сотрудниками миссии, ведь он уже видел бесчинства прибывшей к миссии толпе? Откуда Мальцов достал огромную сумму в 200 червонцев (а это более 2200 рублей по курсу того времени, или примерно 100—110 золотых туманов), ведь казна миссии должны была храниться под охраной там, где были помещения посланника? Значит, эти деньги были в его комнате и были заранее приготовлены. Но для чего?
Конечно, имевшаяся у Мальцова сумма могла соблазнить феррашей, но не слишком ли явно и открыто они «защищали Мальцова именем Назар-Али-хана»? Не странно ли, что секретарь Грибоедова вообще укрылся не где-нибудь, а именно в комнате, где помещались мехмандар Назар-Али-хан и его секретарь (вспомним слова автора Реляции, что он жил вместе со своим начальником)? Не могло ли быть так, что если мирза-секретарь, как и мехмандар, был вовлечен в заговор и выполнял в миссии функции наблюдения за русскими дипломатами, именно он и помог спрятаться от нападавших Мальцову, а потом помог ему с помощью прибывших персидских военных переехать во дворец губернатора?
Как же конкретно спрятался Мальцов? Есть две версии: по рассказу находившегося в Иране тифлисского купца Егора Бежоева, он спрятался в сундуке, а по другим данным, якобы рассказанным самим Мальцовым через много лет своему знакомому в Ницце, ферраш «завернул Мальцова в ковер и поставил его в угол комнаты, где стояли другие ковры, свернутые в трубки».
Эти сведения являются частью записей М. Аничковой, жены Н.А. Аничкова (1809—1892), видного дипломата, который был главой русской миссии в Тегеране и собирал данные о смерти Грибоедова. По его словам, в 1890 г. он беседовал с неким Казим-Мирзой, являвшимся дедом тогдашнего шаха Персии, и тот рассказал ему много несуразного, особенно о якобы «беспардонном» поведении Грибоедова во время аудиенций с шахом, когда он «ходил по комнате, как сумасшедший», бранился и даже плевал на пол.
Но вот что интересно: по словам Казим-Мирзы, шах на Грибоедова «очень сердился» и говорил, «что нужно наказать русского посланника Грибоедова... Шах приходил в Андерун (женскую половину. — С. Д.) и говорил, что нужно пугнуть Грибоедова. Но никак не думал, что все это кончится так печально для Грибоедова».
В этих словах, как мы покажем далее, есть доля истины. А что касается спасения Мальцова, то Аничков утверждал с его слов, сказанных в Ницце в 1878 г., что Мальцова «завернул в персидский ковер и поставил в чулан, чтобы народ его не видал, не кто иной, как курьер русской миссии», вероятно, Амбарцум (Ибрагим-бек). По словам Аничкова, «курьер этот получил 14 ран, ему пожаловало, кажется, наше правительство офицерский чин и орден... Но богатый Мальцев по своей скупости ничего не дал бедному и семейному курьеру. В 1878 г. мой муж видел Мальцева в Ницце и ему сказал, что его спаситель курьер до сих пор, кажется, жив и живет в большой бедности. Мальцев только покачал головою».
В этом рассказе фантастичным представляется, что Мальцова мог спасти простой курьер и тем более дравшийся до конца штурма Амбарцум, но образ «неблагодарного» и не очень приятного первог¬о секретаря миссии Аничков и его жена, пожалуй, уловили очень точно.
Как бы то ни было, но, прячась или в сундуке, или в ковре, Мальцов находился в таком состоянии почти три часа (для нас важно это его сообщение о длительности штурма и разгрома посольства — примерно с 9.00 до 12.00). И неужели, «боясь пошевелиться» и выдать себя, Мальцов мог видеть хоть что-нибудь происходившее в миссии?
Из комнаты Назар-Али-хана Мальцов, даже если он вылезал из сундука или выпутывался из ковра, мог наблюдать лишь за событиями на первом дворе, к которому примыкала квартира тавризского мехмандара. А комплекс зданий миссии, напомним, состоял из четырех дворов. Мальцов был свидетелем лишь первых минут штурма и, конечно, не мог видеть происходившего в четвертом дворе, где разыгралась основная драма, не мог знать о геройском поведении многих участников русской миссии во время штурма. Но он знал об обстоятельствах до окружения миссии, и в этом ценность его донесений.
После разгрома Мальцов якобы видел, «как сарбазы и ферраши шахские» грабили помещения миссии. А в другом месте своих донесений он рассказал о завершении своего заточения немного по-иному: «В 9 часов вечера пришел серхенг с вооруженными гулямами, нарядил меня и людей моих в сарбазские платья и повел во дворец Зилли-султана». Спрашивается, каких таких «людей Мальцова» вместе с ним вывели из посольства в «сарбазских платьях»? И тут раскрывается еще одна загадка: как установил историк С.В. Шостакович, в комнате мехмандара Назар-Али-хана укрывался и потому спасся еще один сотрудник русской миссии — курьер Арутюн Гасратов!
Об этом стало известно из прошения этого курьера, марагинского жителя, к Паскевичу от 28 марта 1830 г. «Находился я у покойного Полномочного Министра при Персидском дворе Грыбоедова, курьером, — писал со слов Гасратова рядовой Яков Васильев в прошении главнокомандующему, — и когда посольство следовало в Персидцкую столицу Тегрань, тогда был я отправлен от города Казвани (Казвина. — С. Д.) с чиновником, находящимся при покойном Грибоедове Дадашевым в город Килань (Гилян. — С. Д.) для приемки с судна Государственных подарков, присланных к Персидцкому Шаху, для доставления оных в Тегрань; а отсюда был послан сим же Дадашевым с бумагою к покойному Грибоедову и, обратно приехав в Килань, откуда с выше упомянутыми подарками отправился вместе с Дадашевым в город Тигрань. Но по прибытии моем на другой день произошло ужасное происшествие, случившееся в Тигране с Грибоедовым, отчего испугавшись бежав в квартиру Назарали хана, бывшего главным приставом при посольстве, и спрятался в постелю под видом больного; где ханский человек спас жизнь мою; но только что лишился я всего моего имущества, кроме имевшей на себе одежды». За эту «страдательную службу и долгое терпение» по приказу Паскевича Гасратову было выдано 60 рублей.
И как же в одной «квартире» (или комнате?) смогли укрыться двое: Мальцов в ковре или в сундуке и Гасратов в постели? Обратим внимание на признание курьера, что именно «ханский человек спас жизнь мою». Кто же был этот спаситель? Не наш ли таинственный мирза-секретарь, автор той самой Реляции? И почему он и, вероятно, связанные с ним ферраши спасли именно этих двух людей? Ведь ясно, что курьер не мог никого подкупить. И если Мальцова после разгрома отвели во дворец Зилли-султана, то куда делся в то же время Гасратов? Его тоже в «сарбазском одеянии» приютили во дворце?
Вопросов действительно остается очень много, но на то оно и исследование, чтобы ставить вопросы для разрешения! Заметим, что из всех сотрудников русской миссии спаслись лишь Мальцов и Гасратов в «квартире» мехмандара, Соломон Меликов (младший), которого просто не было в посольстве (его, вероятнее всего, спас его дядя Манучехр-хан, вызвавший родственника к себе), а также курьер Амбарцум (Ибрагим-бек), рассказ которого мы уже цитировали. Однако этот курьер не прятался и никуда не сбегал, он принял активное участие в защите миссии, получил 18 ран, но смог спастись! По его словам, толпа сочла его убитым, когда, упав под ударами, он лежал среди мертвых. Его спасению помогло то, что он был одет в платье иранского курьера и что его приютил потом «милосердный персиянин».
Как видим, распространенное мнение, что после разгрома выжил один только Мальцов, оказывается неверным. Уцелели четверо сотрудников миссии, а погибло всего около 50 человек, имевших отношение к российскому посольству, и около 20 нападавших на него. Подчеркнем, что уже после трагедии распространялось много мифов и легенд, которые опутали реальные события. Такие же домыслы касались и спасения Мальцова. Приведем очень характерное высказывание по этому поводу Н.Н. Муравьёва-Карского:
«Из всего посольства спасся тогда только один чиновник Мальцов... Мальцов укрылся в нужное место, как говорят, и средство к уклонению его было дано ему одним армянином, коему он предложил тогда находившиеся при нем 50 червонцев... Мальцову удалось пробраться до шахского дворца, где его, как говорят, сперва прятали в сундук, ибо сам шах боялся возмущения. Когда все затихло, он остался во дворце под покровительством самого шаха и наконец выехал в Грузию. Кроме его, кажется, не было очевидного вестника сему ужасному происшествию. Мальцова многие обвиняли в том, что он не погиб вместе с Грибоедовым. Не знаю, справедливо ли сие обвинение. Мальцов был гражданский, а не военный чиновник и не вооруженный, секретарь посольства, а не конвойный; целью посольства были не военные действия, где бы его обязанность была умереть при начальнике. На них напали врасплох, резали безоружных, и я не вижу, почему Мальцов не прав в том, что он нашел средство спасти себя, и, может быть, еще с надеждою прислать помощи к осажденному посольскому дому. Впрочем, он, кажется, по домашним связям своим был близок к Грибоедову, и о поведении его подробнее вышеизложенного я не знаю. Может быть, и есть обстоятельства мне неизвестные, которые в общем мнении обвиняют его поступок. Я его лично не знаю, едва видел его в Тифлисе; в пользу его не было ничего особенного слышно».
Показательно, что Муравьёв, по сути, оправдывал поступок Мальцова, утверждая, что он не видит, «почему Мальцов не прав в том, что он нашел средство спасти себя». По его словам, Мальцов «был гражданский, а не военный чиновник и не вооруженный, секретарь посольства» и не имел «обязанность умереть при начальнике». Странная логика: Грибоедов, многие сотрудники миссии и прислуга, не считая казаков, тоже были гражданскими лицами, и, конечно, они не обязаны были умирать «при начальнике».
Однако Муравьёв, не скрывавший своей нелюбви к Грибоедову, видимо, так и не понял, что люди погибли «не за начальника», а выполняя свой долг дипломатов и сотрудников российского посольства, отстаивая честь и достоинство не только самих себя, но и родной державы. Впоследствии мы приведем примеры резкого осуждения, с которым столкнется Мальцов, вернувшись в Россию.
Донесения Мальцова имеют важное документальное значение, но в них то и дело появлялись мотивы оправдания автором своей позиции и своего спорного поступка. Один из таких мотивов показывает отрывок из его донесения Паскевичу от 21 марта 1829 г. из Нахичевани, который по непонятной причине ни разу не попал в публикации донесений Мальцова, в том числе в сборнике «А.С. Грибоедов воспоминаниях современников». По-видимому, составители публикаций усмотрели в этом отрывке нежелательные для оценки действий Грибоедова утверждения, что он якобы вообще никак не организовал сопротивление нападавшим на посольство. Приведем этот отрывок по подлиннику, хранящемуся в Архиве внешней политики России в фонде Грибоедова, выразив благодарность сотрудникам этого архива за оказанную помощь:
«В Донесении моем от 18-го марта за № 4-м имел я честь представить Вашему Сиятельству краткое описание происшествия ужасного, беспримерного в Дипломатических летописях. Теперь надлежит разрешить вопрос: был ли Посланник предуведомлен об угрожавшей нам опасности, или нет. Я не слышал от него ни слова; никто из нас ничего не знал, вот почему не деланы приготовления к обороне. Казаки находились в особенном занимаемом ими доме, где и были зарезаны. Да и все прочие не могли защищаться, находясь врозь по своим квартирам, не имея при себе ни оружия, ни зарядов в исправности».
Сразу отметим, что, оправдывая здесь собственную трусость тем, что настоящее сопротивление все равно не было организовано посланником и не имело бы никакого значения, Мальцов фактически оклеветал своих товарищей, которые якобы «не могли защищаться», «находились врозь» и не имели оружия. А казаки якобы вообще находились отдельно от всех и были там «перерезаны». Все это, как мы увидим, полностью противоречит фактам сопротивления, проявленным сотрудниками миссии во главе с Грибоедовым.
С. Н. Дмитриев. «Спасшийся»: И. С. Мальцов и новые документы о тегеранской трагедии1829 г. Часть V
А теперь, пропуская описание деталей разгрома русской миссии, того, чего не мог видеть первый секретарь, обратимся к судьбе спасшегося от разгрома Мальцова, чьи «приключения» после трагедии расскажут многое о сложившейся тогда в Тегеране ситуации. Автор упоминавшейся Реляции такими словами описал окончательное спасение первого секретаря русской миссии:
«Уже было за полдень, когда мне удалось добраться до моего помещения. Слуга мой уверил всех, что оно было занято только магометанами, и потому туда никто не вошел, и оно послужило убежищем Мальцову, первому секретарю посольства (здесь автор Реляции подтверждает рассказ Мальцова о том, что он скрывался в помещении тавризского мехмандара Назар-Али-хана. — С. Д.). Занимаемые им комнаты находились довольно далеко от помещения Грибоедова, и, когда дом был осажден, он не мог уже присоединиться к своим соотечественникам. С помощью денег и обещаний ему удалось уговорить нескольких феррашей и небольшой отряд пехоты, укрывшейся в нашем квартале, взять его под свое покровительство. Когда мятеж несколько утих, мы послали уведомить шаха, что Мальцов один спасся от этой ужасной бойни. Он выслал нам роту пехотинцев, чтобы не допустить новых беспорядков, а с наступлением ночи Мальцов, переодевшись в персидский мундир и смешавшись с солдатами, явился во дворец его величества».
Получается, что именно мирза-секретарь, автор Реляции, послал «уведомить шаха», что Мальцов спасся от «ужасной бойни», а это еще раз говорит о его значительной роли во всех событиях рокового дня. Сам же Мальцов в своих донесениях наиболее подробно осветил именно тот период своего пребывания в Тегеране, когда он попал фактически в заточение во дворце Зилли-султана (немаловажно, что он был поселен именно у тегеранского губернатора, сыгравшего одну из основных ролей в заговоре!). Персидской стороне нужно было решить главное: что же делать с Мальцовым, и если сохранять ему жизнь, то как добиться того, чтобы он представил произошедшую трагедию своему начальству так, как это было выгодно персидским сановникам. Вот рассказ Мальцова о событиях с вечера 30 января, в котором самыми интересными являются объяснения персидских сановников, что они совсем не виноваты в трагедии и даже пытались ее предотвратить:
«Зилли-султан (Али-шах) сам находился в назначенной мне для житья комнате. Он начал описывать в преувеличенных выражениях свою горесть и отчаяние; сам сказал мне, что он поехал было усмирять народ, но, испугавшись ругательств черни, воротился с поспешностию во дворец, велел запереть ворота, расставил сарбазов по стенам, чтобы разъяренная чернь не бросилась в шахский дворец. Я объявил ему желание ехать немедленно в Россию, и мне обещано, что отправят меня через три дня. На другой день пешком Зилли-султан пошел к муджтехиду Мирзе-Масси (Мирза-Месиху. — С. Д.). Я тотчас послал за ним одного преданного мне ферраша послушать, что будут говорить в доме шера. Посланец принес мне весьма неутешительное известие. Муджтехид советовал шаху содержать меня хорошо в Тегеране, оказать всевозможные почести, отправить и велеть убить дорогою, как опасного человека».
Да, Мальцов был совсем не прост: как это он смог, находясь фактически в заточении, подкупить или уговорить «преданного ему ферраша» подслушать, и кого? Двух главных заговорщиков Зилли-султана и муджтехида Мирза-Месиха, обсуждавших, как же им быть с Мальцовым. Узнав об их решении убить его по дороге в Россию, хитрый Мальцов еще более насторожился и стал всем своим видом и поведением показывать, что от него не будет исходить в России никакой опасности. К первому секретарю зачастили персидские сановники — и с целью «разведки» его настроения, и с целью вновь и вновь доказать свою невиновность:
«Шах прислал ко мне всех визирей своих, и я имел честь увидеть и тех высокопоставленных особ, которые по чрезмерной спеси не хотели удостоить посещения своего покойного посланника. Все они с восточным красноречием описывали отчаяние шаха и собственную свою горесть. «Падишах заплатил 8 курур из казны своей за дружбу России, — говорили они, — вот что сделали муллы и народ тегеранский. Какой позор целому Ирану, что скажет император!» Им хотелось выведать мой образ мыслей, но я, зная, что за малейшее слово, несоответственное их видам, должен буду распроститься с жизнию, притворился убежденным их речами. «Надобно быть совершенно бессмысленным человеком, — сказал я, — чтобы хотя одно мгновение подумать, что шах допустил бы сие ужасное дело, если бы был уведомлен одним часом ранее о намерении мулл и народа. Я сам был свидетелем отменной благосклонности падишаха к посланнику и беспримерных почестей, оказанных ему в Тегеране. Я сам видел, что шах принял всевозможные меры для усмирения возмущенной черни; послал самого Зилли-султана, визиря, сарбазов, феррашей, но, к сожалению, они пришли уже слишком поздно для охранения посланника. Я сам могу служить очевидным доказательством покровительства и отличного уважения, которое персидское правительство не перестает оказывать русским, ибо, верно, бы так же погиб, если бы присланные шахом сарбазы не оградили меня от опасности».
Защищая себя от возможной гибели и потакая слушавшим его визирям и сановникам, Мальцов фактически изложил своими словами ту версию событий, которую будут стараться отстаивать в дальнейшем тегеранские власти. О том, что такие речи Мальцова были «по сердцу» персидским государственным деятелям, свидетельствует отрывок из цитировавшегося выше донесения первого секретаря Паскевичу от 21 марта из Нахичевани, который до сих пор остается неизвестным широкому кругу читателей, потому что он был исключен из публикации донесения Мальцова в изданном массовым тиражом сборнике «А.С. Грибоедов в воспоминаниях современников» (М., 1980) и более раннем подобном издании «А.С. Грибоедов. Его жизнь и гибель в мемуарах современников» (Л., 1929). Приведем его согласно подлиннику этого донесения, который хранится в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ):
«Ответ мой очень понравился Визирям, они описали меня Шаху как здравомыслящего и благонамеренного человека. Пади-Шах приказал Мирзе Абдул-Гассан-Хану (министру иностранных дел. — С. Д.) изъявить мне свою отличную благосклонность и сказать, что он не понимает, почему спешу я ехать в Россию, ибо мне, как Старшему Секретарю Посольства, после смерти Министра надлежит отправлять его должность, что Шах мною очень доволен и будет просить Государя Императора о назначении меня поверенным в делах при Тегеранском Дворе. Я отвечал, что должности теперь более здесь не имею и обязан явиться к своему начальству в Россию, но сочту за особенно счастие, если Министерству угодно будет опять отправить меня ко Двору Великого Монарха, удостоивающего меня особенной благосклонности своей.
Между тем, несмотря на настоятельные мои требования, ничего не приготовляли к моему отъезду; до меня доходили самые неблагоприятные известия: говорили, что находившегося в Казбине при вьюках Курьера нашего зарезали, отобрали бывших у него пленных, что Аббас-Мирза будто бы сговорился с посланцем Паши Арзрумского и хотел напасть на наши границы, что г. Амбургер был убит, отказавшись выдать находящиеся у нас в залоге драгоценные камни Наиб-Султана; бывши свидетелем подобного ужасного происшествия в Тегеране, я невольно должен был верить всему, что мне рассказывали; меня содержали под караулом во дворце, не хотели выпускать из Тегерана: я не знал, какая участь ожидает меня, но совершенно лишился надежды когда-либо возвратиться в свое отечество. Наконец чрез 17 дней приехал курьер от Аббас-Мирзы в Тегеран».
Мальцову удалось своей хитростью и благорасположением «очаровать» персидских сановников и самого шаха, которые перестали воспринимать его как врага. А те слухи и новости, которые он получал во время заточения и которые не подтвердились, свидетельствуют, что в те дни ситуация действительно была накаленная и ждать можно было чего угодно. А судьбу Мальцова решил окончательно именно Аббас-Мирза, который на вопрос, как поступить с первым секретарем русской миссии, ответил шаху письмом, присланным с курьером и утверждавшим, что Мальцова следует отпустить в Россию. После этого, а прошло уже около 20 дней после трагедии, было решено через несколько дней отправить Мальцова в Тавриз, а потом в Тифлис. Вот что писал об этом сам Мальцов:
«Зилли-султан (почесть неслыханная), все министры снова удостоили меня своего посещения и объявили, что через три дня я буду отправлен в Россию» [7. С. 300]. (Далее следует важный отрывок донесения, который также был изъят почему-то из двух основных сборников воспоминаний о поэте.) «Вот в чем состояло дело. Шах, не зная, что со мной делать, удержать ли, отравить, убить ли в Персии, или отпустить в Россию, просил совета у Аббас-Мирзы, и как Наиб-Султан написал, что должно меня немедленно отправить в мое отечество, и я между тем уже успел беспрерывным притворством в продолжение трех недель убедить приставленных для наблюдения за мною персидских чиновников, что я буду сильным адвокатом в пользу Шаха, то и решено было наконец дело в мою пользу».
Далее Мальцов рассказал о подарках, сделанных ему шахом:
«Шах прислал мне в подарок две шали и худую лошадь, которая, конечно, не стоит 10 червонцев. Я хотел было отказаться от щедрых подарков его величества, но, наконец, принял оные по следующей причине: если бы я от них отказался, то шах заключил бы, что я имею против него личную злобу, полагаю, что он сам участвовал в убиении посланника и, следовательно, в этом виде намерен представить все дело моему правительству; тогда бы приносимый мне к ужину плов приправили, без всякого сомнения, такою пряностию, которая в 24 часа отправила бы меня в сообщество товарищей моих, погибших в Тегеране».
Мальцов до последних дней пребывания в Персии боялся, что его все равно убьют или отравят, и это не могло не отразиться на его поведении. А теперь приведем полностью еще один отрывок из того же донесения Мальцова Паскевичу, который также не был включен в сборники мемуаров о поэте и который проливает новый свет на трагедию, так как в нем изложена позиция самого Фетх-Али-шаха, давшего Мальцову последнюю аудиенцию:
«Я имел прощальную аудиенцию у Шаха; он начал сперва говорить о своей горести, раз десять повторял, что он заплатил 8 курур за дружбу России и, следовательно, не будет нарушать оной, что, конечно, по персидской логике есть самое убедительное доказательство, какое только может он придумать в свое оправдание, и в заключение своей речи объявил он мне желание наказать примерно виновных, но он теперь не сможет сделать этого, ибо боится сам гнева Мирзы Масси: вот слова, достойные славного прибежища всего света! Потом Е.В. заставил меня проговорить, что я думаю о случившемся в Тегеране происшествии. Здесь, более чем когда-либо должно было мне заливать в душе своей пламя праведного негодования холодною струею благоразумной осторожности: я повторил Шаху то, что прежде говорил его Визирям, и речь свою унизал отборным бисером восточных комплиментов. Шах был мною очень доволен, говорил, что ему весьма грустно со мною расставаться, но что он надеется в скором времени опять увидеть меня в своей столице. Вечером прислал он мне ужин из андеруна своего, и сам требовал непременно, чтоб я о сей великой почести не забыл известить свое Правительство. Наконец был я отправлен из Тегерана с конным конвоем; из всех городов высылаемы мне были навстречу Шахзадами истенбали (приемы. — С. Д.); везде был я принят хорошо, особенно же в Тавризе.
Аббас-Мирза показался мне истинно огорченным всем случившимся в Тегеране, ибо знает, что по ту сторону Кафланку все его ненавидят, и он без пособия России никогда не может быть Шахом. «Я стараюсь всеми мерами, — говорил он мне, — приобресть милостивое расположение Императора, а вот что теперь наделали в столице Фет Али-Шаха, и вся тяжесть гнева России может теперь пасть на главу мою. Я, слуга Императора, покорен Его воле; если Фет Али-Шах боится наказать убийц Посланника, то я не боюсь, сам поеду в Тегеран, казню несколько сот виновных». — «Я знаю В.В., — сказал я Аббас-Мирзе, — что многие злоумышленные люди, враги России и еще более Персии, внушали Вам, что Россия никогда не простит убиения Посланника своего и непременно объявит Вам войну, они советовали Вам воспользоваться теперешними обстоятельствами и учинить нападение в наши границы. По неограниченной моей преданности и усердию к В<аше>му В<еличест>ву мне несказанно приятно было видеть, что Вы не послушались сего вредного для Вас совета и испытываете все способы исходатайствовать от Государя Императора Всемилостивейшее прощение и сохранить прежнюю дружбу с Россиею. Вам известно, что Россия не ищет приобретения земель от Турецкой Империи и объявила ей войну только за притеснения и обиды, деланные нашим подданным тамошним Правительством; следовательно, пути к примирению не далеки, и блестящие успехи нашего оружия заставляют уже Турок желать мира». — «Точно мне советовали, — возразил Аббас-Мирза, — но я, Императора почитая отцом своим, осмелюсь ли когда-либо иметь против Его Величества враждебные замыслы; все должен ожидать я от Его милости, у меня нет на свете другой надежды». Аббас-Мирза говорит, что он готов объявить войну Турции, если только это будет приятно Императору. Я отвечал на это согласно с последнею инструкциею, полученною Посланником в Тегеране от Вице-канцлера. Желание Наиб-Султана объявить войну Турции почитаю я довольно искренним, ибо он желает приобресть Баязет и Мум, которые, по словам его, России не нужны, а ему очень бы кстати. Дабы объявить войну, он просит, чтобы наше Правительство подарило или даже продало ему 10 т. ружей и несколько пушек, ибо он не имеет вовсе оружия, лишившись оного в последнюю Кампанию. <...>
Более чем когда-либо желает теперь Аббас-Мирза ехать в С.-П.-бург. «Ваши Министры, — сказал он мне, — боятся, что я, приехав в Петербург, стану просить Государя об уступке 2 последних Курур и Талышей (Талышинского ханства. — С. Д.); но разве они забывают, что я, Наиб-Султан и сын Пади-Шаха, что я не иначе являюсь к Императору, как с двумя последними Курурами». Не думаю, чтобы он точно мог это выполнить: денег собственных он не имел, а Фет Али-Шах, несмотря на все старания Табризских негоциаторов, решительно не дает ни гроша. <...>
Подписал Титулярный Советник Мальцов».
Последняя аудиенция Мальцова с шахом состоялась в конце февраля, и для нас очень важно, что и в этот период Фетх-Али-шах продолжал находиться в растерянности, постоянно выражал «горечь» от произошедшего и вроде бы объявил о своем желании «наказать примерно виновных», но признался, что... боится муджтехида Мирза-Месиха. И это заявлял шахиншах великой империи («славное прибежище всего света!»), что не могло не вызвать удивления и иронии даже у Мальцова. Этим своим поведением Фетх-Али-шах косвенно подтвердил ту огромную роль, которую сыграл в заговоре против русской миссии Мирза-Месих (значит, шаху было за что его наказывать!), и то сильное влияние, которое оказывал муджтехид на текущую политическую ситуацию в Иране.
«Бисером восточных комплиментов» Мальцову удалось доказать шаху свою лояльность, а тот не только удостоил русского дипломата присылкой ему ужина, но и обеспечил ему везде по пути следования до России с «конным конвоем» хороший прием, в том числе в Тавризе, где Мальцову удалось, по сути, провести важнейшие переговоры с Аббас-Мирзой.
Наследника престола Мальцов нашел «огорченным» и очень злым на виновников тегеранского заговора, который — и это прекрасно понимал Аббас-Мирза — был направлен прежде всего против него как претендента на персидский престол. Шахзаде «рвал и метал», желая казнить «несколько сот виновных», но сделать он этого никак не мог. Его авторитет и влияние не могли не упасть в глазах персидских царедворцев после смерти Грибоедова, который делал все, чтобы подтверждать позицию России, признававшей Аббас-Мирзу наследником персидского престола.
Когда Мальцов прямо спросил Аббас-Мирзу, не советовали ли ему персидские вельможи «воспользоваться теперешними обстоятельствами и учинить нападение» на Россию, поддержав тем самым Турцию, наследник престола откровенно признался, что «точно мне советовали». А это значит, что одна из главных целей заговорщиков вовлечь Иран в новую войну с Россией начала тогда осуществляться, и давление на Аббас-Мирзу в этом отношении весьма показательно.
Однако Аббас-Мирза думал о собственных интересах, и, надеясь на поддержку России, он вновь озвучил Мальцову те же самые идеи, которые он обсуждал с Грибоедовым до его отъезда из Тавриза: «объявить войну Турции», став союзником России, и отправиться на переговоры к императору Николаю I в Петербург, собрав даже для этого два недостающих курура персидской контрибуции. Мальцов сразу же уловил суть этих предложений, отметив намерение Аббас-Мирзы «быть в состоянии претензию на Престол поддержать силою против соперников своих».
Аббас-Мирза готов уже был собирать войска, просил помощи от России оружием и готов был даже выступить посредником в переговорах России с Турцией, если они будут склоняться к миру, но он ждал, как и в период пребывания Грибоедова в Тавризе, четких распоряжений и договоренностей с русской стороны. Грибоедов был, конечно, прав, когда обращался к начальству с предложениями поддержать инициативы Аббас-Мирзы. Но теперь его уже не было в живых, и кто мог довести все эти дела до логического конца? Конечно, не Мальцов и не трусливые и зажатые в тиски «европейской политики» Нессельроде и Родофиникин.
Несмотря на признание Мальцовым своей «неопытности», можно утверждать, что в дни после трагедии он проявил себя очень изворотливым и хитрым политиком и дипломатом. Фактически первый секретарь миссии выступил и как опытный разведчик, предоставив в своих донесениях ценнейшую информацию, собранную им во время заточения и поездки назад в Тифлис.
В своем донесении к Паскевичу из Нахичевани от 23 марта 1829 г. Мальцов уговаривал командующего Отдельным Кавказским корпусом не посылать его больше в Персию ни под каким предлогом:
«Из донесений моих ваше сиятельство усмотреть изволите, que j’ai jour ruse pour ruse avec les Persans (что я отвечал персам хитростью на хитрость (фр.) и этим только сохранил я жизнь свою. Теперь нахожусь я на почве, осененной неизмеримым крылом двуглавого российского орла, и говорю сущую правду своему начальству: этого персияне мне никогда не простят, и за все, что случится для них неприятного, будут питать личную злобу на меня. После этого мне невозможно воротиться в Персию, ибо по ту сторону Аракса жизнь моя подвержена будет ежеминутной опасности; мне придется испить до дна горькую чашу ненависти и мщения персиян.
Смею прибегнуть под сильное покровительство вашего сиятельства, прося вас убедительно сообщить сие от себя г. вице-канцлеру и благоволить написать к нему, что я в Персию ни под каким видом воротиться не могу, чтобы он сделал мне милость отозвать меня в С.-Петербург, где бы находился я при особе его сиятельства, доколе не представится для меня какое-нибудь секретарское место при одной из европейских наших миссий.
Ежели вашему сиятельству не будет угодно сделать какого-нибудь милостивого обо мне представления, то я останусь безо всякого вознаграждения за все потерпенные мною в Персии бедствия и попадусь опять в когти персиян, от которых так чудесно избавился. Крайность принудила меня прибегнуть к вашему сиятельству с убедительнейшею просьбой; я решился на то в полной уверенности на правосудие и милостивое ваше расположение».
А вот теперь настал момент перейти к самому важному документу, касающемуся эпопеи И.С. Мальцова, обнаружение которого можно считать хотя и небольшой, но сенсацией. В ходе кропотливой работы в Архиве внешней политики Российской империи мне посчастливилось найти ранее неизвестное письмо Мальцова не Паскевичу, часть которых, как мы уже упоминали, была хорошо известна, а вице-канцлеру, министру иностранных дел России К.В. Нессельроде. Любопытно, что это письмо датировано 25 марта, написано там же в Нахичевани, имеет исходящий № 10, а значит, оно замыкает цикл писем Мальцова, которые он начал писать 18 марта, когда пересек границу с Персией. В итоге получается, что тогда он написал 9 писем Паскевичу и одно непосредственно Нессельроде, хотя точности ради следует отметить, что все письма Мальцова Паскевич переслал Нессельроде, а тот показывал их императору Николаю I. В итоге эти письма оказали существенное влияние на формирование официальной позиции Санкт-Петербурга на тегеранскую трагедию и поведение Грибоедова.
Приведем данное письмо полностью, оставляя орфографию и стилистику послания без изменений, а затем прокомментируем его.
Секретно Получено 29 апреля 1829
Его Сиятельству Господину Вице-Канцлеру и Кавалеру Графу Карлу Васильевичу Нессельроду,
Секретаря Российско-Императорской Миссии в Персии, Титулярного Советника Мальцова
Донесение
Персидское правительство говорит, что оно нисколько не участвовало в убиении нашего Посланника, что оно даже ничего не знало о намерении Муллов и народа: но стоит только побывать в Персии, чтобы убедиться в нелепости сих слов. Многие из персидских чиновников уверяли меня, что они уже за три дня предуведомляли Г-на Грибоедова об угрожавшей ему опасности. В Персии секретных дел почти нет: среди важных государственных занятий и прений Визири пьют кофе, чай, курят кальяны, и многочисленные их Пишхадметы всегда находятся при них в комнате; Визири рассуждают громогласно, при открытых окнах, и толпы Фарашей, стоящих на дворе, слышат слова их и через два часа разносят государственные тайны по всему базару. Как же могло Персидское Правительство не знать ни слова о деле, в котором участвовал целый Тегеран. Муллы проповедовали гласно в мечетях; накануне были они у Шахзады Зилли Султана, накануне велели запирать базар, и есть даже слухи, что в самое время убиения Посланника Муштеид Мирза Масси сидел у Шаха.
Положим даже, что не Шах, а Муллы послали народ в дом нашей Миссии, но и тогда Шах виноват: зачем допустил он это? Если бы он решительно сего не хотел, то мог бы приставить сильный караул к нашему дому, который встретил бы чернь пулями и штыками, мог ночью перевести Посланника и чиновников во дворец, или наконец, уведомив Г. Грибоедова о возмущении народном, просить его ночью удалиться из Тегерана в какую-нибудь загородную дачу: но тогда бы уцелел Мирза Ягуб, а этого именно и не хотелось Фет Али Шаху.
Вот как по моему мнению произошло все дело: Шах испытал все меры удержать Мирзу Ягуба, сперва убеждениями, просьбами, потом ложными денежными претензиями, наконец гневом и угрозами: ничто не удалось. Ему непременно надобно было истребить сего человека, знавшего всю тайную историю его домашней жизни, все сплетни его гарема; пока Посланник был жив, этого никто сделать не мог. Отправить Сарбазов, которые бы отобрали силою Мирзу Ягуба и убили его, Шах не смел, ибо это было бы явное нарушение, с его стороны, мирного Трактата, за который заплатил он 8 Куруров. Ему сказали: «народ вторгнется в дом Посланника, убьет Мирзу Ягуба, а мы притворимся испуганными, велим запереть ворота дворца, пошлем Зилли Султана и Визиря унимать чернь, пошлем Сарбазов, которым не велим никого трогать, и скажем: мы ничего не знали, это все сделал проклятый народ, мы тотчас послали вспомоществование, но к сожалению злодейство уже было совершено. Одним словом, все то, что Шах говорит и пишет теперь в свое оправдание. Шаху для достижения своей цели другого средства не оставалось; от нас надеялся он отделаться обыкновенными своими отговорками, и потому не принял никаких мер для нашей безопасности.
Без какой-нибудь выгоды или корысти ничего не предпринимают, даже и злодейств, и потому я не думаю, чтобы Шах желал смерти нашего Посланника, которая может подвергнуть его величайшей ответственности. Его Величеству вероятно представили, что народ возьмет только пленных, убьет Мирзу Ягуба, но не тронет русских, и тогда ему легко будет во всем случившемся извиниться. Но вероятно были люди, которые желали смерти Посланника, устроили тайными сношениями адский заговор и открыли из оного Шаху только то, что могло интересовать Его Величество.
Не смею никого называть, изложу беспристрастно некоторые факты, из которых Ваше Сиятельство изволите сами вывесть собственное заключение.
До приезда Г. Грибоедова в Персию Каймакам старался его описывать Правительству как опасного человека. Посланник был с ним в ссоре и сделал ему даже личное оскорбление, выгнав его Высокостепенство из дома своего. Посланник говорил гласно, что он постарается, чтобы Каймакама сменили и место его отдали Мирзе Меммед Али Мустофи: эти слова переданы были Каймакаму, и он, узнав о приеме, сделанном Посланнику в Тегеране, должен был точно бояться за свое место. Брат Каймакама, Мирза Муса Хан, был назначен при нас Мегмендарем, что было Г. Грибоедову очень неприятно, но он не ехал вместе с нами и в Тегеране ни разу не видался с Посланником; Мирза Муса Хан имел с Каймакамом самую деятельную переписку. Квартира приставленного от Шаха Мегмендаря Мирзы Абуль Гуссейн Хана была дочиста ограблена, также и комната караульного Султана: в комнате Назар Али Хана, приставленного к нам Каймакамом, ничего не тронуто, я сам спасся под эгидою его имени. Сам Назар Али Хан в этот день с утра вышел из нашего дома и не виделся с Посланником, у которого обыкновенно просил, из учтивости, позволения отлучаться.
В Табризе довольно гласно обвиняют Каймакама. Он должен был отправиться в Тифлис с Эмир-задою, но притворился больным, чтобы не ехать; я это знаю от Г. Кормика, который лечит Каймакама от притворной его болезни. Желая испытать Каймакама, я настаивал, чтобы он скорее ехал в Тифлис, говоря ему, что он умнейший человек в целой Персии, и что кроме его никто этого дела уладить не может. Каймакам всегда смущался, полагая себя разгаданным, и потом приискивал разные предлоги, чтобы только отложить неприятное путешествие.
Но что более всего огорчило меня — это торжество англичан. Не смею высказать ужасных подозрений моих, ибо не имел способов добраться до нити ужасного заговора.
Англичане страшились влияния Посланника нашего на Персидское Правительство; с самого приезда его никто на них не обращал внимания. Наиб Султан явно говорил о неограниченной преданности своей к России; в Тегеране оказаны были такие почести Г. Грибоедову, каких не могли они купить себе за истраченные ими в Персии 9 курур туманов. Все долголетние труды их и деньги пропадали разом: им надлежало дела свои поправить решительным ударом или вовсе отказаться от Персии. Известно, как англичане завистливы на власть и влияние свое в Азии, и поведение их с французами в Персии дает повод к ужаснейшим заключениям. Выгоды их сходились в теперешнем случае с выгодами Каймакама; Каймакам человек им проданный, и они теперь притворяются с ним в ссоре, ругают его, чтобы отдалить от себя подозрение. Все персидские вельможи на жалованье у англичан по мере своей власти, и я полагаю, что Муштеид Мирза Масси, человек, пред которым трепещет сам Шах, вероятно продал им совесть свою. Когда был в Тегеране Барон Розен, потом Адъютант Графа Паскевича Эриванского, Фелкерзам, там всегда находился английский чиновник для наблюдения за их сношениями с Двором Шахским; от чего же, когда Г. Грибоедов, который был для них гораздо опаснее, поехал в Тегеран, они не отправили туда никого из своих? Эта излишняя предосторожность, кажется мне, может также служить поводом к подозрениям.
Теперь англичане восторжествовали; уверяют персиян, что мы, находясь в непримиримой войне с Турциею, им ничего сделать не можем; говорят, что Англия скоро объявит войну России; советуют Аббас Мирзе учинить нападение в наши пограничные области, а, чтобы маскировать поведение свое, Англинской Посланник подал официально протест Персидскому Правительству против случившегося в Тегеране происшествия, и оставшихся в Табризе купцов наших принял под свое покровительство.
Но удержусь от всяких дальнейших замечаний, ибо не могу представить неоспоримых доказательств. Нить к ужасному заговору не попалась мне в руки; трудно, почти невозможно без золотого ключа добраться до истины, не смею утвердительно обвинять никого. Но всем известно, что англичане там, где дело касается до их политической власти, не слишком разборчивы в средствах к достижению своей цели; и кто, после всего случившегося, может решительно сказать, что кровь русская в Тегеране не была куплена ценою английского золота, и что хитрый, пронырливый Каймакам не был душою адского заговора.
Титулярный Советник
Мальцов
№ 10
Нахичевань
25 марта
1829
Как видим, в этом письме Мальцов повторял, правда, немного другими словами, тезисы, которые уже звучали в его более ранних письмах Паскевичу: о том, что шах не мог не знать о готовящемся разгроме посольства; о том, что он так или иначе виноват в его допущении; о том, что сам шах вряд ли желал «смерти нашего Посланника»; о том, что отлучившийся без спроса в день штурма каймакам Назар-Али-хан, уполномоченный персидским двором руководить всеми отношениями с посольством, был замешан в заговоре. Однако это письмо уникально тем, что в нем, как ни в каких других донесениях Мальцова, звучит обвинение в причастности к заговору англичан и что автор письма открыто формулирует сам факт этого широкого заговора, участники которого провели и самого шаха: «Но вероятно были люди, которые желали смерти Посланника, устроили тайными сношениями адский заговор и открыли из оного Шаху только то, что могло интересовать Его Величество».
Анализируя «торжество англичан» после разгрома посольства и утверждая, что он не смеет «высказать ужасных подозрений моих, ибо не имел способов добраться до нити ужасного заговора», не может «представить неоспоримых доказательств», Мальцов тем не менее привел несколько важных фактов и соображений:
1. После Туркманчайского мира и приезда Грибоедова англичане почти полностью утеряли свое влияние и «им надлежало дела свои поправить решительным ударом или вовсе отказаться от Персии».
2. Англичане сами себя разоблачили, когда накануне штурма посольства каким-то странным образом вовсе исчезли из Тегерана: «эта излишняя предосторожность, кажется мне, может также служить поводом к подозрениям».
3. На содержании англичан находился не только каймакам Назар-Али-хан, замешанный в заговоре, но и самое влиятельное духовное лицо в Тегеране Мирза-Месих, сыгравший ключевую роль в событиях января 1829 г. и находившийся, по всей вероятности, в часы штурма у самого шаха.
4. Англичане подобным же образом действовали и ранее, когда им надо было, к примеру, ограничить влияние на персидский двор французских дипломатов (вспомним, что еще в 1805 г. англичане попросту отравили мешавшего им французского посланника в Иране Ромье, и, хотя доказать это в то время никому не удалось, пересуды в обществе открыто обвиняли английскую сторону. А еще раньше, в 1802 г., как будто бы случайно в Индии был убит мешавший англичанам иранский посланник!).
Вывод Мальцова очень красноречив: «Но всем известно, что англичане там, где дело касается до их политической власти, не слишком разборчивы в средствах к достижению своей цели; и кто, после всего случившегося, может решительно сказать, что кровь русская в Тегеране не была куплена ценою английского золота...»
В рамках этой статьи у нас нет возможности подробно и обстоятельно подтверждать и дополнять справедливые выводы Мальцова, мы можем лишь констатировать явный парадокс: человек, донесения которого сыграли отрицательную роль в деле дискредитации официальными властями Грибоедова, который якобы сам виноват в тегеранской трагедии, на самом деле писал об «адском заговоре» с участием англичан и представителей персидской знати против российского полномочного министра. (Кстати, это же самое делал и Паскевич.) Просто в Санкт-Петербурге Нессельроде и его сторонники видели события так, как им это было понятно и выгодно, и именно в этом свете они представляли общую картину императору.
Вернемся, однако, к эпопее Мальцова после тегеранской трагедии. Да, он страшно боялся вернуться в Персию, «испить до дна горькую чашу ненависти и мщения» персиян и «попасть опять в их когти», от которых он «так чудесно избавился». Но он в марте 1829 г. и предположить не мог, что вскоре вновь окажется в этой «проклятой стране», что прожить ему будет суждено, в отличие от его погибших товарищей, еще 51 год, до 1880 г., что всю жизнь его будут сопровождать кривотолки о его трусости и предательстве, что Паскевич отнесется к нему с явным недоверием, не подтвердив высказанной Мальцовым «полной уверенности на правосудие и милостивое расположение» наместника Кавказа.
Однако поступок Мальцова не найдет осуждения среди дипломатического начальства России того времени. 9 мая 1829 г. Мальцов, «во внимание к примерному усердию и благоразумию, оказанным во время возмущения в Тегеране», был награжден орденом Святого Владимира 4 й степени, а впоследствии он станет крупным чиновником Министерства иностранных дел и богатым фабрикантом, унаследовавшим заводы своего дяди.
Заметим, что никто из погибших в Тегеране, в том числе Грибоедов, не был награжден посмертно никакими наградами, а вот Мальцов получил высокую награду, да еще с издевательской для погибших формулировкой «за примерное усердие и благоразумие», проявленное во время разгрома миссии. Все остальные, получается, были «не усердны» и «не благоразумны». Вот так начала проявляться уже в 1829 г. официальная версия царских властей, что виноватыми в трагедии в Тегеране были сам Грибоедов и его подчиненные!
Приехав в Тифлис, Мальцов некоторое время находился при Паскевиче, а потом по случаю отъезда генерального консула А.К. Амбургера, несмотря на высказанную им ранее боязнь возвращаться в Персию, исполнял до конца марта 1830 г. его обязанности в Тавризе, после чего уехал в Петербург, продолжая службу в МИДе. Читатель не поверит, но в 1855, 1857 и 1864 гг. Мальцов временно управлял Министерством иностранных дел! Умер он в Ницце в чине действительного тайного советника (до таких высот Грибоедов не добрался) и в должности непременного члена совета министерства иностранных дел. Блестящая карьера и спокойная, умеренная жизнь! Что тут еще сказать...

Персидская струна русской поэзии
На протяжении многих лет историк, поэт, автор проекта «Поэтические места России» Сергей Дмитриев изучает связь русских поэтов с Ираном и Персией и влияние, которое оказал Ближний Восток и эта территория с самобытной культурой и историей на русскую поэзию. Вашему вниманию представлены несколько глав из новой книги Сергея Дмитриева «Русские поэты и Иран. Персидская струна русской поэзии от Грибоедова и Пушкина до Есенина и нынешних дней», в которых представлены уникальные факты биографии поэтов России разных исторических эпох.
От автора
Восток и особенно таинственная Персия больше двух веков влекли к себе мастеров русской поэзии, искавших для себя вдохновение в восточных мотивах. Почему и каким образом это происходило в судьбах поэтов? Что привнесла в отечественную литературу персидская струна русской поэзии? Этими вопросами я заинтересовался ещё при подготовке альбома «По свету с камерой и рифмой», в котором я вскользь коснулся весьма занимательной и почти не изученной в нашей стране темы, которую можно назвать «Русские поэты-путешественники». Удивительно, но специально этой темы в самом широком ключе не касался еще ни один исследователь, а в России не издано ни одной антологии стихотворений поэтов-путешественников по разным странам. Можно констатировать, что в отечественном литературоведении имеются лишь разрозненные исследования о некоторых путешествиях отдельных поэтов, например А.С. Пушкина или Н.С. Гумилёва, и полное раскрытие этой темы еще впереди. Однако начинать подступы к ней нужно уже сегодня, и мои путешествия по Ирану достаточно ясно показали, что наиболее интересным освещением этой темы могло бы стать исследование связей русских поэтов с той или иной страной, будь то Персия, Япония или Святая Земля. Причём, предметом такого исследования должна стать не только история конкретных путешествий в данную страну тех или иных поэтов с подробным изучением их творений на эту тему, но и выяснение того, как вообще культурное наследие той или иной страны повлияло на творчество русских поэтов, как оно отразилось в их поэтических поисках, даже если они сами никогда не были в этой конкретной стране мира.
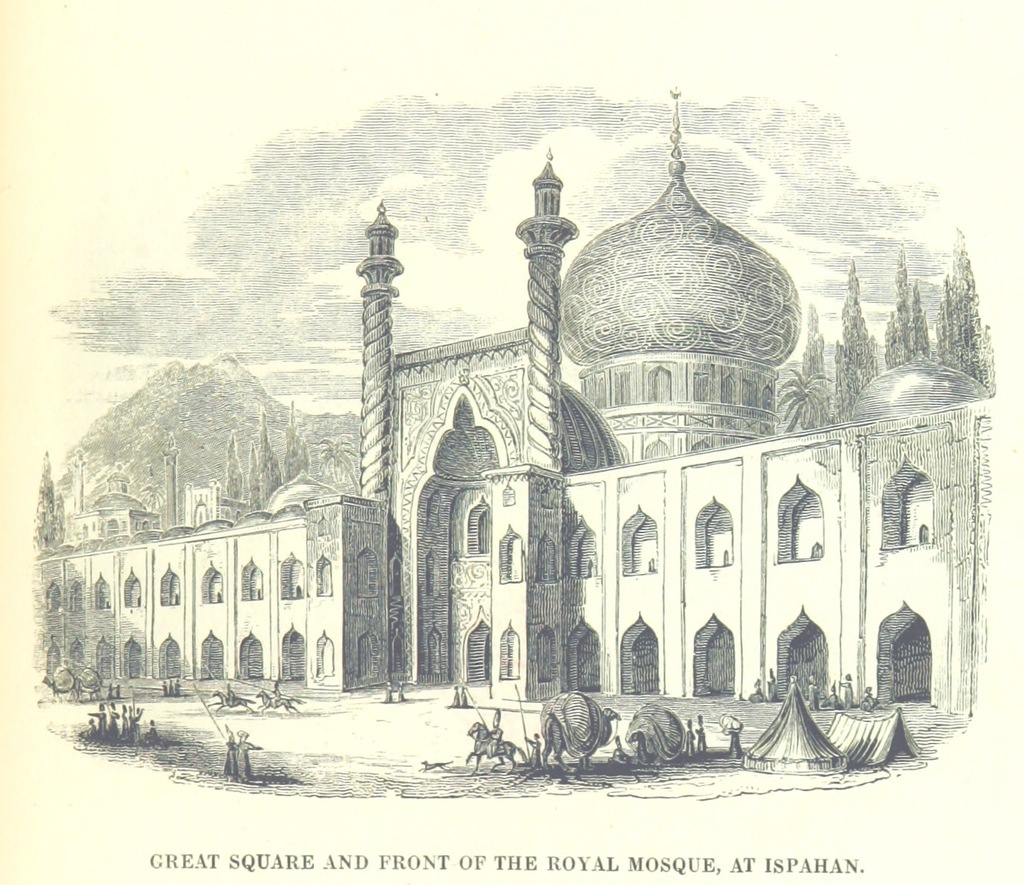
Начиная работу над этой темой, я и представить себе не мог, какое огромное воздействие оказала Персия, ее история и культура на русскую поэзию и ее выдающихся представителей. Причем это не зависело от того, удавалось ли самим поэтам воочию увидеть персидский мир. Вспомним, какие яркие стихи оставили о Востоке и Персии так и не побывавшие в ней В. Жуковский, А. Фет, Ф. Тютчев, И. Бунин, В. Брюсов, К. Бальмонт, М. Волошин, Н. Гумилёв и, особенно, С. Есенин! Лишь нескольким поэтам удалось когда-то прикоснуться к персидской земле, и, конечно, первым среди них навсегда останется «персидский странник» Александр Грибоедов, которому суждено было не только более трех лет своей короткой жизни провести в Персии, но и погибнуть в ее столице. Грибоедов стал тем незабываемым примером, который, как магнит, притягивал к Персии многих шедшим по его «восточным стопам» поэтов – и Пушкина, и Лермонтова, и Есенина…
Глубокое погружение в тему «Русские поэты и Персия» принесло для меня много открытий. Оказалось, что в этой стране побывали не только Александр Грибоедов (1819–1822, 1827-1829 годы) и Велимир Хлебников (1921 год), что довольно широко известно, но и такие поэты и писатели, как:
Василий Каменский (1906 год),
Николай Клюев (предположительно в начале ХХ века, но это не подтверждено документами),
Владимир Тардов (1909, 1920, 1921-1928 годы, работал дипломатом в Иране, специалист по фарси),
Лев Василевский (до 1912 г., работал тогда судовым врачом, написал цикл стихов «Персидские мотивы»),
Юрий Терапиано (1913 год),
Евгений Яшнов (1914 год),
Сергей Городецкий (1916–1917, 1921 годы),
Эдуард Багрицкий (1917–1918 годы),
Виктор Шкловский (1917–1918 годы),
Александр Чачиков (1918, 1921 годы),
Мойше Альтман (1920 год),
Вячеслав Иванов (1921 год),
Григорий Санников (1925, 1956 годы).
В советское время и позднее в Иране побывали Алексей Сурков (1946), Вера Инбер (1946), Расул Гамзатов, Тимур Зульфикаров, Михаил Синельников, Сергей Маркус, Аида Соболева и… автор настоящего исследования.

Из этого перечня очевидной становится удивительная картина «закрытости» Ирана для русских поэтов: до 1906 г., когда в Персии оказался Каменский, там побывал из отечественных поэтов только один Грибоедов, да и то это было почти за 80 лет до этого. А с 1906 по 1925 г. Иран посетило не менее 15 поэтов, хотя они и были разного масштаба и известности. При этом важно отметить, что большинство из них увидели только северные районы Ирана и не посещали ни Тегерана, ни Исфахана, ни Шираза. Потом последовали довольно отрывочные посещения Ирана советскими поэтами, а еще через некоторое время, уже после распада СССР, начались поездки в эту страну поэтов новой России, в том числе и автора этого труда. Все равно нам известно о посещении Ирана лишь примерно 25 поэтами, оставившими в своих стихах образы родины Саади и Хафиза…
Попробуем далее в нескольких постах показать, какое место «дыхание Персии» занимало в творчестве многих русских поэтов, и тех, кто побывал в Иране, и тех, кого он манил к себе долгие годы...
Персидская струна русской поэзии: от самых истоков
Мила нам добра весть о нашей стороне:
Отечества и дым нам сладок и приятен.
Г.Р. Державин
Дайте русскому мальчику звездное небо, и на следующий день он вернет вам ее исправленной.
Ф.М. Достоевский («Братья Карамазовы»)
Начало начал
Когда же интерес к Персии впервые проявился в русской поэзии? Неужели только в Золотой век отечественного поэтического слова, в начале XIX века? Или намного раньше, когда соседство России с Персидской империей не могло не сказываться на глубоком и неподдельном интересе россиян к «персидскому миру»? Ответ может быть однозначным, что, начиная с «Хожения за три моря» тверского купца Афанасия Никитина, который на пути в Индию познакомился с Персией более 500 лет назад, постепенно персидская тематика становилась все более «горячей» в общественном сознании России.

«Описание путешествия
Голштинского посольства
в Московию и Персию»
Известно, к примеру, что еще в первой половине XVII века участником одного из посольств царя Михаила Федоровича в Персию стал стряпчий и поэт Алексей Саввич Романчуков, который в своих до
рожных стихах не мог не записывать свои поэтические впечатления, хотя они и носили поверхностный характер. В 1636 г. Романчуков был назначен сопровождать Голштинское посольство в Персию и одновременно царским посланником или «малым послом» к персидскому шаху. В сентябре этого года он прибыл в Астрахань, а вернулся туда из Персии в конце 1638 г. Русская миссия путешествовала вместе с голштинской, секретарь которой, Адам Олеарий, записал в дневнике, что Романчуков «был лет 30, с здравым умом и весьма ловкий, знал несколько латинских изречений, против обыкновения русских имел большую охоту к свободным искусствам, особенно же к некоторым математическим наукам и к латинскому языку». Во время путешествия Романчуков, благодаря голштинцам, овладел латинским языком почти в совершенстве и так пристрастился к математике, что беспрестанно занимался изучением астролябии и делал математические вычисления.
Поэтическое наследие Романчукова совсем невелико, известно одно его стихотворное послание, в котором слышна трагическая интонация. Возможно, оно написано перед самой смертью: поэт скончался вскоре после возвращения из Персии. Ходили слухи, что это было самоубийство, и что якобы Романчуков отравился, узнав о неудовольствии на него царя за действия его в Персии или излишнее увлечение науками.
Особенно персидская тематика начала выходить на первый план в эпоху Петра Великого, когда не только появилась пресса, и стало активно развиваться книгоиздание, но и противостояние двух империй – Российской и Персидской – дошло до прямой военной борьбы во время Персидского похода Петра I в 1722 году. В этом походе принял участие офицер Павел Степанович Львов, который на берегу Каспия, южное прибрежье которого тогда впервые перешло к России, сочинил знаменитую поныне песню, которую можно считать одним из первых творений с «персидским оттенком»:
Уж как пал туман на сине море,
А злодейка-тоска в ретиво сердце;
Не сходить туману с синя моря,
Уж не выйти кручине из сердца вон.
К счастью, раненый автор этого шедевра не погиб, а вернулся домой, обзавелся там семьей и долго вспоминал свои персидские приключения. В ту пору русская поэзия делала только самые первые свои шаги, и ее расцвет был еще впереди, но уже тогда стали проявляться ее лучшие качества. «Дайте русскому мальчику звездное небо, и на следующий день он вернет вам ее исправленной», — эти иронические слова из романа Достоевского «Братья Карамазовы», казалось бы, не относятся напрямую к поэзии, но они прекрасно демонстрируют ту важную черту русского национального характера, которая проявлялась и не единожды во многих областях человеческой деятельности: от подвигов первопроходцев и географических открытий до научных исследований и прорывов в сфере искусства.
Выходить за пределы доступного, искать неведомое, постигать скрытое от взглядов — эти качества проявляли и многие русские поэты, особенно в эпохи «времен Очаковских и покоренья Крыма», первых русских кругосветных путешествий, Отечественной войны 1812 года и последующих постоянных войн за укрепление российской державы. Поэты всегда старались не отрываться от происходившего в стране, и, конечно, все это проявлялось и во время их странствий и путешествий по России и миру.
Однако в XVIII веке «поэтическое познание» мира находилось в России в зачаточном состоянии, и дело заключалось не только в постепенном формировании русского поэтического языка, накоплении им богатств, опыта и традиций, но и в том месте, которое поэзия занимала в общественной жизни. Она еще не заняла то положение, которое подарил ей Золотой век русской поэзии, и оставалась в подчиненном, вторичном положении в культурном и общественном пространстве. Занятия поэзией были не совсем профессиональными, в том смысле, что они, как правило, лишь дополняли основную деятельность поэтов, в большинстве своем служивших на государственных постах разного рода. И получалось, что поэзия оказывалась часто продолжением этой службы и в ней во весь голос звучали именно гражданские мотивы.
До 80—90 х годов XVIII века в русской поэзии почти безраздельно господствовал классицизм, которому были свойственны идеи рационализма, превосходства разума, обращение к высоким общественно-воспитательным функциям искусства, к возвышенной истории, с игнорированием часто всего случайного, индивидуального и мелкого. Эта направленность подкреплялась следованием строгим канонам и определенным жанрам поэзии, имевшим конкретные признаки и четкую иерархию. К высоким жанрам относились ода, трагедия, эпопея, а к низким — комедия, сатира, басня. В ту пору почти отсутствовал жанр небольших по объему лирических стихотворений, посвященных переживаниям и впечатлениям поэтов в конкретное время и в конкретном месте. А отсюда вытекало, что, перебрав все, написанное поэтами XVIII века, мы найдем очень мало стихотворений, посвященных конкретно «персидским мотивам». Географическая тематика неизбежно растворялась тогда в исторических одах, пафосных эпопеях или более легких комедиях и баснях. Тем более, что география путешествий русских поэтов XVIII века не шла ни в какое сравнение с такой географией Золотого века, а тем более века XX: заграничные путешествия были тогда большой редкостью, и, конечно, в Персию никто из поэтов просто не попадал.

Портрет П. А. Плавильщикова
Однако одно имя здесь следует все-таки привести. Одним из первых произведений на персидскую тему в русской поэзии является трагедия поэта и драматурга, актера и режиссера Петра Алексеевича Плавильщикова (1760-1820) «Тахмас Кулыхан», под именем которого автор изобразил захватившего персидский престол жестокого завоевателя Надир-шаха, разграбившего Дели, столицу Великих Моголов. В пьесе тиран домогается любви плененной жены Великого Могола Зальмиры, но терпит поражение. Его обличает воин Арбелам, думающий о благе Персии:
Ты троны мог себе со славой покорить,
Почто ж отечество ты медлишь защитить?
Ты в лаврах в Индии, но персов ток кровавый
Мрачит гремящия твоей блистанье славы.
Но Тахмас не преклонен в своей страсти к завоеваниям и тиранству, что дает автору повод изобличить такое поведение монархов в «просвещенный век»:
Пойду во все места искать себе побед,
Чтоб сердца моего отмстить ужасну жертву,
Или в отчаяньи пред ним мне пасти мертву
Свирепыя войны в пылающем огне.
Гавриил Романович Державин – провозвестник взлета русской поэзии
Именно в ключе интереса к истории Персии следует оценивать обращение к «персидской теме» Гавриила Романовича Державина (1743–1816), знаменитого поэта-государственника, одного из немногих русских мастеров рифмы, который сочетал в себе поэтическое творчество и служение на высоких государственных постах губернатора (Олонецкого и Тамбовского наместничеств) и министра юстиции. Державин постоянно интересовался восточными сюжетами, не раз вспоминал в своих стихах Аллаха и Пророка («Прошу великого Пророка, // Да праха ног твоих коснусь…»), Зороастра (Заратустру) (Екатерина Великая, согласно поэту, давала подданным законы, опершись «на Зороастров истукан») и питал особую страсть к индийской поэзии. Он даже обратился в 1810 г. к индологу Г. С. Лебедеву с просьбой познакомить его с принципами стихосложения индийских поэтов.
А в 1797 г. в оде «На возвращение графа Зубова из Персии» Державин вспомнил о знаменитом «персидском походе» в эпоху Екатерины Великой и сравнивал военачальника Зубова с Александром Македонским – покорителем Персии. Тогда случилось непоправимое: передовые части русских войск уже вступали в Гилян, но умерла Екатерина II, а ее сын Павел I назло матери прекратил победоносный поход. Зубов попал в опалу, что не остановило Державина, который, призвав полководца к стойкости, попытался воссоздать яркие картины персидских земель, как будто он сам там побывал.
И конечно, как дитя своей эпохи, Державин не мог не изъясняться в том же витиеватом, часто напыщенном стиле, свойственном поэзии того времени. Послушаем, как он писал о жизненной философии, в которой поражения и неудачи не должны сломить человека:

Портрет работы Е. А. Беловой-Романовой
с оригинала 1795 г. В.Л.Боровиковского.
2010. Всероссийский музей А.С.Пушкина
Цель нашей жизни — цель к покою:
Проходим для того сей путь,
Чтобы от мразу иль от зною
Под кровом нощи отдохнуть.
Здесь нам встречаются стремнины,
Там терны, там ручьи в тени;
Там мягкие луга, равнины,
Там пасмурны, там ясны дни;
Сей с холма в пропасть упадает,
А тот взойти спешит на холм.
Но тот блажен, кто не боится
Фортуны потерять своей,
За ней на высоту не мчится,
Идет середнею стезей
И след во всяком состояньи
Цветами усыпает свой.
Далее, сравнивая Зубова с Александром Македонским («По духу войск, тобой веденных, / По младости твоей, красе, / По быстром персов покореньи / В тебе я Александра чтил!»), Державин описал то, что тому пришлось увидеть и пережить:
О юный вождь! сверша походы,
Прошел ты с воинством Кавказ,
Зрел ужасы, красы природы:
Как, с ребр там страшных гор лиясь,
Ревут в мрак бездн сердиты реки;
Как с чел их с грохотом снега
Падут, лежавши целы веки;
Как серны, вниз склонив рога,
Зрят в мгле спокойно под собою
Рожденье молний и громов.
Ты зрел, как ясною порою
Там солнечны лучи, средь льдов,
Средь вод, играя, отражаясь,
Великолепный кажут вид;
Как, в разноцветных рассеваясь
Там брызгах, тонкий дождь горит;
Как глыба там сизо-янтарна,
Навесясь, смотрит в темный бор;
А там заря злато-багряна
Сквозь лес увеселяет взор.
А вот и заключительный совет Державина любому полководцу, в том числе и Зубову:
Кто был на тысяще сраженьях
Непобедим, а победил,
Нет нужды в блесках, украшеньях
Тому, кто царство покорил!
Да, мы можем наблюдать, что здесь стиль еще не совсем «золотого века» русской поэзии, но как бьётся мысль поэта. Напомним, что это именно Державин сказал то, что перефразировал позже в «Горе от ума» А. С. Грибоедов: «Мила нам добра весть о нашей стороне: / Отечества и дым нам сладок и приятен».
В этих словах поэт, по сути, выразил главную идею всяческих путешествий: именно они позволяют почувствовать тоску по Родине, и даже знакомый с детства «дым Отечества» — «дым трагедий, неустроенности и былых пожарищ» нам становится «и сладок, и приятен».
Державин выступает здесь поэтом-пророком, которые в России были всегда, и он не случайно стал зримым мостиком к «золотому веку» русской поэзии, передав свою эстафету юному А.С. Пушкину, и где? — именно в Лицее, в Царском Селе, которое Гавриил Романович сильно любил и тоже воспевал в своих стихах.
Интерес к Востоку и рождение Золотого века
Отметим здесь особо, что именно в конце XVIII века интерес к Востоку в России резко возрос. В стране в тот период и чуть позднее стали появляться многочисленные переводы произведений восточной тематики: сказки «Тысячи и одной ночи», стихотворения Саади, Хафиза, Фирдуоси, «Персидские письма» Монтескье, «Задиг» Вольтера, «Волшебные сказки» А. Гамильтона, «Персия, или Картина управления, религии и литературы этой страны» А. Журдена. А в петербургских театрах тогда были очень популярны оперы и балеты на восточные темы.
Герой повести «Задиг» Вольтера пребывал в зораострийском Иране, и, как это не удивительно, но уже тогда в России знали учение Зороастра-Заратуштры. В одном из стихотворений Державина Екатерина Великая даже дарует своим подданным законы, опираясь на «Зороастров истукан». А еще более явный поворот внимания к Персии, к иранской истории и культуре произошел в России в начале XIX века и в связи с географическим соседством с восточными странами, и в связи с частыми войнами с народами мусульманского мира. В 1804 г. в российских университетах было введено преподавание восточных языков – арабского и персидского, а в 1818 г. в Петербурге был организован Азиатский музей, где хранились восточные рукописи.

Все эти перемены в повышенном интересе к Востоку совпали с постепенным появлением на свет такого уникального культурного явления как Золотой век русской поэзии. Историки и литературоведы до сих пор спорят, когда же в России начался и когда закончился этот самый век. Впервые такое выражение применительно к русской литературе употребил в 1863 году М.А. Антонович, потом начались постоянные дискуссии, которые привели к результату, что Золотой век русской поэзии охватывает первую треть XIX века (или все-таки чуть больше, включая творчество Ф.И. Тютчева), в то время как в русской литературе он длился почти до конца XIX века, включая труды Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого. На мой взгляд,
Золотой поэтический век в нашей стране продлился примерно с 1810-1815 годов, когда начала творить целая плеяда поэтов, в том числе А.С. Пушкин, до начала 1850-х годов, когда еще продолжали творить Ф.И. Тютчев, А. Фет и Н.А. Некрасов, но в общественной атмосфере уже проявилось падение интереса к поэзии в целом.
Для нашего повествования важно отметить, что рождение и развитие Золотого века совпало с победой романтизма, который пришел на смену классицизма и сентиментализма со следующими своими чертами: внимание к душевному миру человека, к его чувствам, а не только к великим идеям и общественному служению; культ природы, а не культ разума, и естественного в человеке; изображение ярких, зачастую сильных, страстей и характеров людей, показ страданий и эмоций героев; появление новых жанров, таких как баллада и романтическая драма, поэтические пьесы. Родоначальником романтизма считается В. А. Жуковский, а к его последователям можно отнести и К.Н. Батюшкова, и Е.А. Баратынского, и раннего А.С. Пушкина, и «русского Байрона» М.Ю. Лермонтова, и Ф.И. Тютчева, которому суждено было фактически завершить романтизм на русской почве. Без сомнения сердцем и душой Золотого века русской поэзии был Пушкин, которого с разных сторон поддерживали «поэты пушкинской поры».
Начало Золотого века совпало с эпохой Наполеоновских войн, которые не только прибавили драматизма тогдашней жизни, но и открыли границы для освоения поэтами пространства России и Европы. Десятки участников Отечественной войны 1812 года, включая Д. В. Давыдова, Ф. Н. Глинку, А. С. Грибоедова, познали тогда европейские дали, что не могло не сказаться на их поэтических опытах. А после этого последовала эпоха «перемены мест», если использовать известное выражение из грибоедовского «Горя от ума»: она закрутила в своем водовороте десятки поэтов, которые вынуждены были скитаться, не имея постоянного пристанища. То их ждали войны, то участие в декабристском движении и ссылки, то дуэли, заканчивавшиеся теми же ссылками, то служебные поездки-испытания. Как правило, поэты рождались в одном месте, а потом переезжали из одного города в другой, постигая при этом российские просторы. И, конечно, такие перемены в образе жизни поэтов не могли не принести в копилку поэзии путешествий новые веяния и открытия.
Во-первых, фактически впервые в русской поэзии стали появляться целые циклы стихотворений, посвященных тем или иным местам России, а то и отдельным зарубежным странам. Это можно увидеть на примере Пушкина, которого ждал весьма сложный и запутанный маршрут судьбы от рождения до женитьбы: Москва - Царское село (Лицей) – Петербург – Кавказ – Крым – Украина – Кишинев – Одесса – Михайловское – Москва – Петербург – Тифлис и Эрзерум – Москва – Петербург – Болдино - Москва. И не случайно мы можем выделить в творчестве поэта стихи и поэмы, где одними из главных героев выступают места, оставившие неизгладимый след в его биографии: Москва, Царское Село, Петербург, Кавказ, Михайловское. Причем если суммировать все «геостихи» Пушкина, то на первом месте окажется Петербург с Царским Селом, на втором – Михайловское с окрестностями, а на третьем впечатливший поэта Крым. Даже родная Москва с подмосковным Захарово уступает в этом соревновании.
Заметим попутно, что Пушкин, пожалуй, первым в русской поэзии своим «Путешествием Онегина», помещенным в качестве приложения к его бессмертному творению, создал своеобразный «поэтический трэвелог», в котором Онегин странствует только путями самого автора: по России, Кавказу, Крыму, Украине.

Аул Гуниб в Дагестане
1869 г.
Во-вторых, уже в начале Золотого века русской поэзии, особенно с победой романтизма как литературного направления, настоящей «меккой» поэтов становится только что открывшийся Кавказ, который в 1818 году увидел Грибоедов, в 1820 – Пушкин, а позднее - Лермонтов, Бестужев-Марлинский, Одоевский и многие другие. И «кавказская струна» зазвучала в русской поэзии во весь голос. Почти то же самое произошло и с Крымом, который именно в период господства романтизма так увлек русских поэтов. Заметим, что в это время поэтический интерес еще не коснулся ни Русского Севера, ни Сибири, ни многих, казалось бы, близких к столицам мест Центральной России с овеянными славой древнерусскими городами. Все это придет позднее, уже в XX веке. А вот «персидская струна» русской поэзии во всю силу начала звучать именно в первую треть ХIХ века.
В третьих, именно с 1820-х годов XIX века в поэзии утверждается традиция конкретного и реалистичного описания поэтами тех или иных мест, увиденных собственными глазами, без пафосных преувеличений и избыточных восторгов, столь свойственных более ранней поэзии. Достаточно обратиться к «Евгению Онегину» и узнать, что «Москва Онегина встречает / Своей спесивой суетой, / Своими девами прельщает, / Стерляжьей подчует ухой», что в Нижний Новгород «жемчуг привез индеец, / Поддельны вины европеец, / Табун бракованных коней / Пригнал заводчик из степей», что в Астрахани героя поэмы, «Как жар полуденных лучей / И комаров нахальных тучи, / Пища, жужжа со всех <сторон>, / Его встречают», и что в Пятигорске поражает «…Зеленеющий Машук, / Машук, податель струй целебных; / Вокруг ручьев его волшебных / Больных теснится бледный рой…» Реальные приметы жизни и самых разных просторов с этой поры уже навсегда обретут свою прописку в извивах русского поэтического слова.
Золотой век русской поэзии интересен тем, что именно в эти годы русские поэты начали активно путешествовать заграницу, открывая одну страну за другой, но это не привело к отторжению родных мест на второй план. Наоборот, эти странствия только укрепляли их любовь к Родине, что мы можем подтвердить стихами многих мастеров рифмы.
А что и как происходило на «персидском фронте» русской поэзии в первой половине XIX века лучше всего могут рассказать истории жизни и творчества таких гениев рифмы, как Грибоедов, Пушкин и Лермонтов.
Иранская мозаика: от Василия Жуковского до Владимира Соловьева. Часть I
Знойный день не пламенеет
На прозрачных небесах;
Погляди, – лазурь темнеет,
Звезды искрятся в водах…
И в гостиницах Шираза
Сонных персов не живит
Звук чудесного рассказа
И кальян не веселит.
П.Г. Ободовский
Ликуй Иран! Твоя краса
Как отблеск радуги огнистый!
Земля цветет – и небеса,
Как взоры гурий, вечно чисты!
Так возлюбил тебя Аллах,
Иран, жемчужина Востока,
И око мира, падишах,
Сей Лев Ислама, меч Пророка!
Л.А. Якубович
Дело в том, что я в настоящее время Гафиз, то есть читаю и перевожу эту прелестную розу Ирана.
Из письма А.А. Фета Дружинину
Под влиянием Персии: 20 поэтических имен
«Персидский магнит» притягивал к себе не только тех русских поэтов «самой высшей пробы», которым посвящены отдельные статьи в настоящей книге – от Грибоедова и Пушкина до Хлебникова и Есенина. Его притяжение включало в свою орбиту, по крайней мере, с начала ХIХ века по 20-е годы ХХ века, почти весь поэтический мир России, и не важно, суждено ли было тому или иному поэту побывать в Персии, или персидская струна вдруг начинала звучать в его творчестве как будто сама по себе. За 100 с лишним лет, которые вобрали в себя и Золотой, и Серебряный век русской поэзии, трудно найти даже нескольких поэтов, которые хотя бы косвенно, хотя бы мельком не коснуись «иранской темы», будь то подражание персидским лирикам, переводы их творений или просто восточные напевы в собственных стихах. Попробуем бегло пробежаться по летописным вехам русской поэзии, затронув только те имена, которые этого достойны в популярном, а не в академическом издании.

В 1805 г. к теме персидской истории обратился вкратце недоценный современниками поэт Семен Сергеевич Бобров (1763—1810), который долго жил на юге России, был некоторое время в центре общественного внимания (его произведениями знали Грибоедов, Пушкин, Вяземский) и умер в бедности. В поэме «Херсонида, или Картина лучшего летнего дня в Херсоне Таврическом» он писал о Персии,
Где царствовали Шах — Аббасы
В объятиях спокойных мира.
Где Кулыханы разъяренны
В себе открыли тех бичей,
Каких Бог сил послал на землю
Карать трепещущи народы?..
В 1806 г. рано ушедший из жизни и совсем забытый сегодня поэт Федор Иванович Ленкевич (1780-е—1810), принадлежавший к радищевскому кругу поэтов, не случайно в эпоху надежд на победу реформ и просветительства при императоре Александре I обратился одним из первых к учению Зороастра (Заратуштры), в котором его заинтриговало противобортсво добра и зда и предрасположенность к победе первого. В стихотворении «Два Зороастрова гения» он отразил это таким образом:

на фреске Рафаэля «Афинская школа»
Ты истину изрек, о мудрый Зороастр!
Вселенна двух духов во власти:
Один дух злобы и коварств,
Влекущий за собой напасти…
Другой есть ангел — покровитель,
Народов и царей хранитель…
Но правда держит царствий вес —
И зло добра не побеждает...
Благого благость воссияет,
Как Феб на высоте небес;
А злобы дух в своем стремленьи,
Крутясь, крутясь, исчезнет вмиг...
Рекут народы в изумленьи:
«И всё губил... и сам погиб...»
Иранская мифология привлекала и несчастного, сосланного на Кавказ, разжалованного в солдаты и фактически замученного позднее телесными наказаниями Александра Ивановича Полежаева (1804 — 1837). В своем стихотворении «Демон вдохновения» (1832) он обратился к образу Аримана (Ахримана), бога тьмы и олицетворению всего злого в маздаизме, противника Ормузда (Ахура Мазды). Подданные этого «властителя духов» преклоняются перед его силой и жестокостью:

Рельеф в Персеполе (XII—VI в. до н. э.)
«О Ариман! О грозный царь
Теней, забытых Оризмадом!
К тебе взывает целым адом
Твоя трепещущая тварь!..
Мы не страшимся тяжкой муки:
Давно, давно привыкли к ней
В часы твоей угрюмой скуки,
Под звуком тягостных цепей…»
А Ариман является перед всеми и в «громе, и в блеске», в «тройной короне из черных змей», твердо утверждает при этом «власть своей руки» и вдруг исчезает «на троне среди теней»… И это вызывает у поэта, потерявшего «демона вдохновения», тоску и одиночество (не подействовал ли он этим образом на М.Ю. Лермонтова, создававшего в то же время своего Демона?):
Все тихо!.. Страшные виденья,
Как вихрь, умчались по стене,
И я, как будто в тяжком сне,
Опять с своей тоской сижу наедине…
Зачем ты улетел, о демон вдохновенья!
Другой почти забытый сегодня поэт «пушкинской поры», дебют которого привествовал и Пушкин, и Баратынский, Андрей Иванович Подолинский (1806—1886) чуть раньше Ознобишина также обратился к иранской мифологии, когда в довольно объемной поэме «Див и Пери» (1827) показал противостояние и одновременно сосуществование в персидских пределах Див – падших ангелов, превратившихся в злых демонов, и Пери – тоже падших ангелов, но стоящих на страже добра. В этой поэме, насыщенной приметами иранской жизни, колорит Востока ощущается так, будто автору удалось все — таки посетить Персию:

Из пределов Сегестана
К дальним рощам Хорасана
Пери легкая неслась. —
Тень ложилась на равнины...
И безмолвны те долины,
Где когда — то кровь лилась…
Тот предел перелетая,
Видит Пери: чуть мелькая,
Между камней цвет ночной
Блещет радужной росой;
И склонясь под сенью древа,
Как задумчивая дева,
Дремлет в неге, — и сквозь сон
Ароматом дышит он.
И к нему, благоуханьем
С высоты привлечена,
Мчится Пери, и дыханье
Пьет душистое она.
В завершение поэмы автор переходит к обобщению о том, что и ныне Дивы и Пери летают над землей, творя свои деяния:
Дни бегут, лета мелькают
Неизменною чредой:
Каждый год рука с рукой
Див и Пери посещают
Край за краем. Над землей
Льются их благодеянья —
Их достойные деянья
Человек благословлял;
И об них воспоминанье
Он потомству завещал.
Подолинский и позднее продолжал обращаться к персидским мотивам, написав стихотворение «Фирдуси» (1828) и еще одну мифологическую поэму «Смерть Пери», которя также как и первая его поэма на восточные темы была написана в манере модного в то время Томаса Мура.
Персидская лирика, попадая на русскую почву, своей пестротой, яркостью и необычностью, будила у поэтов новые образы и сюжеты. Так, Дмитрий Петрович Ознобишин (1804 — 1877), талантливый поэт, путешественник и общественный деятель, кстати, рвавшийся попасть в состав грибоедовского посольства в Персию, но не добившийся своего, а потому проживший долгую жизнь, придумал даже для себя особый псевдоним Делюберадер, что по — персидски означало «Сердце брата» (не Грибоедова ли?). Ознобишин знал несколько языков, среди которых был арабский и фарси, составил первый персидско — русский словарь, переводил восточных поэтов, в том числе Низами Гянджеви, и много писал на иранские темы, не забывая и любовные ноты. В превосходном по своей красоте стихотворении «Рождение перла» (1828) он описал историю любви «степного духа» к прекрасной деве:
Степей полнощных дух могучий
Младую деву полюбил,
Для ней он радостные кущи
Ирана светлого забыл.
Чертог из пышного коралла
За поцелуй дарил он ей;
Но дева гордо отвечала:
«Как беден дар твой, дух степей!»
Долго-долго «степной дух» подносил красавице разные дары, но все было тщетно, до тех пор пока он «на поверхность океана слезу блестящую сронил», и «та слеза вдруг перлом стала, каких не зрели средь зыбей!» Красавица сдалась, дух «стал счастлив». А Ознобишин закончил свое творение почти в духе «грядущего через сто лет» Есенина с его «Персидскими мотивами»:

миниатюра 1645 года
Прекрасны утренние розы,
Когда на них заря горит;
Но вы, любви живые слезы, —
Ваш блеск ничто не затемнит!
Как перл, на дне зыбей сокрытый,
Вы льетесь сладостно в тиши, —
Как в перле блеск и нежность слиты,
Так в вас все радости души!
Дмитрий Ознобишин не случайно примерно в эти же годы обратился к переводам персидских лириков Саади и Хафиза, одним из первых в русской поэзии воспроизведя газели – особый вид иранской поэзии. И ему удалось это сделать талантливо и оригинально:
Без красавицы младой,
Без кипящего стакана,
Прелесть розы огневой,
Блеск сребристого фонтана —
Не отрадны для души!
Без напева соловья
Скучны роз душистых ветки;
Шепот сладостный ручья
И ясминные беседки —
Не отрадны для души!
(1826)
А вот так Ознобишин перевел одну из од Хафиза:
Блестящую чашу наполни вином,
Пусть светлое в чаше играет!
Рви розы, бросай их на землю кругом,
Лишь глупый заране вздыхает.
Так в утренней песни звучал соловей:
Что, розочка, скажешь о песни моей?
(1829)
Следует особо подчеркнуть, что, начиная с конца 1820-х годов и позднее, переводами персидских лириков занимались и многие другие поэты, кроме упомянутых выше и описываемых ниже представителей первого ряда поэтического цеха XIX в. Достаточно назвать имена и произведения следующих служителей поэзии, хотя их и можно отнести сегодня к полузабытым авторам: Алексей Степанович Хомяков (1804 — 1860) («Из Саади»), Михаил Ларионович Михайлов (1829 — 1862) («Из Саади», «Из Руми»), Леонид Николаевич Трефолев (1839 — 1905) («Песня дервиша». Из «Гюлистана»), Дмитрий Николаевич Цертелев (1852 — 1911) («Из Зенд — Авесты», «Отречение Кира»).
А известный участник Отечественной войны 1812 г., автор «Писем русского офицера», долгожитель — поэт Федор Николаевич Глинка (1786 — 1880) обратился со своим вольным переложением к «Гюлистану» несравненного Саади, чтобы прославить в стихотворении «Нетленные глаза» благодетельного восточного царя, который просил Творца «отдать его истленью», оставив «нетленными одни мои глаза»:
«Я жажду и молю еще увидеть, Боже,
Останется ль по мне в народе счастье тоже,
Пойдет ли вcе своей уставленой чредой,
И будет ли мой сын, наследник молодой,
И благ и справедлив, a больше милосерден,
Доступен нищему и сироте
И к алтарям Твоим усерден!..»
Умолк; его мольба свершилась в полноте;
Он весь истлел, одни глаза его глядели,
И подданных сердца к нему благоговели!
Понятно, что это стихотворение, написанное Глинкой в 1827 г., имело и чисто русскую подоплеку: на троне правил тогда новый император, и, конечно, пример благочестия и заботы о народе персидского монарха не мог быть чисто случайным, ведь Глинка был обвинен в 1826 г. в причастности к движению декабристов, но был освобожден из Петропавловской крепости и сослан в Петрозаводск.
В это время после «Подражаний Корану» Пушкина священная книга мусульман стала по — настоящему «модной» книгой, а «восточный стиль» превратился в одну из ведущих примет романтизма.
Позднее Федор Достоевский в своей знаменитой речи на пушкинском юбилее скажет об удивительном проникновении поэта в саму суть ислама: «Разве тут не мусульманин, разве это не самый дух Корана и меч его, простодушная величавость веры и грозная сила ее?» Мусульманские герои и праведники заполнили тогда стихи поэтов — современников Пушкина, которые оставались христианами, но их вдохновляло мужество и преданность вере представителей исламского мира.
Упомянем лишь несколько имен и произведений: Александр Вяземский – «Мухамед», Андрей Николаевич Муравьев (1806—1874) – «Песнь дервиша» и «Бахчисарай», Владимир Григорьевич Бенедиктов (1807—1873) – «Калиф и раб», «Подражание персидскому»… Коранические нотки в стихах тогда входили в моду. Послушаем, как затейливо, легко и иронично сплел эти нотки с Ираном Антон Антонович Дельвиг (1798 — 1831), лицейский друг Пушкина, когда ему захотелось послать альманах «Северные цветы» за 1827 г. подруге его жены А.Н. Карелиной, жившей тогда в Оренбурге:

с автографом цензора П. И. Гаевского (1797—1875г.)
От вас бы нам, с краев Востока,
Ждать должно песен и цветов:
В соседстве вашем дух Пророка
Волшебной свежестью стихов
Живит поклонников Корана;
Близ вас поют певцы Ирана,
Гафиз и Сади — соловьи!
Но вы, упорствуя, молчите,
Так в наказание примите
Цветы замерзшие мои.
Другой приятель Пушкина, служивший на Кавказе и создавший в Тифлисе цикл стихотворений «Восточная лютня», Александр Ардалионович Шишков (1799 — 1832), племянник известного адмирала и министра народного просвещения А.С. Шишкова, прекрасно уловил в грузинской жизни приметы долгого персидского владычества и также, как ровно через 100 лет С.А. Есенин, как будто бы перенесся с помощью своей фантазии в Персию (таким сильным был уже тогда магнит восточной, незнакомой страны):
Я дев прелестных видел там:
И бег был легкий бег джейрана;
Спускалась дымка по грудям
С лица до стройного их стана. —
Оне пышней гилянских роз,
Приятней сладкого шербета!
Не так любезен в полдень лета
Для нимф прохладный ток Гаета
И страстных гурий нежный взор,
Всегда приветный, вечно юный
Небесных Пери звучный хор,
И Сади ропщущие струны.
Некоторое время в Тифлисе жил и замечательный поэт Яков Петрович Полонский (1819 — 1898), который также как и Шишков наблюдал в грузинской столице «персидские реалии». Так, стихотворение «Сатар» (1851) он посвятил известноиу в Тифлисе иранскому певцу, поразившему его своим «диким» пением:

Сатар! Сатар! твой плач гортанный —
Рыдающий, глухой, молящий, дикий крик —
Под звуки чианур и трели барабанной
Мне сердце растерзал и в душу мне проник…
Не знаю, что поешь, — быть может, песнь Кярама,
Того певца любви, кого сожгла любовь;
Быть может, к мести ты взываешь — кровь за кровь —
Быть может, славишь ты кровавый меч Ислама —
Те дни, когда пред ним дрожали тьмы рабов…
Не знаю, — слышу вопль — и мне не нужно слов!
Полонский вообще часто обращал свой взор к Востоку, он написал драматическую поэму «Магомет», цикл стихов на исламские мотивы, а также поэму «Н.А. Грибоедова» о любви Нины Чавчавадзе и Александра Грибоедова, воспев историю драматических судеб двух влюбленных, навечно связавших своим примером два народа – русский и грузинский.
Андрей Николаевич Муравьев (1806–1874) – русский литератор, путешественник и религиозный деятель – был хорошим знакомым А. С. Грибоедова. Они повстречались в Крыму в 1825 г. и несколько раз подолгу общались. Позже Муравьев утверждал: «Многим обязан я Грибоедову...». И, вероятнее всего, именно тот повлиял на будущие паломнические путешествия Муравьева именно по направлению на Восток, где поэт вдохновлялся вот такими строками:
Аллах дает нам ночь и день,
Чтоб прославлять его делами;
Светило дня – Его лишь тень –
Виновных обличит лучами.
Аллах керим! Аллах керим!
Член «Общества любомудрия», оригинальный поэт, которого ждала слишком краткая жизнь, Дмитрий Владимирович Веневитинов (1805–1827) собирался, подобно А. С. Грибоедову, отправиться послом в Персию и там «на свободе петь с восточными соловьями». Тем более что он, как и Грибоедов, служил некоторое время в Азиатском департаменте Коллегии иностранных дел.
Алексей Константинович Толстой (1817–1875) в своих «Крымских очерках», устав от тягот и забот, поминал Аллаха:
Всесильной волею аллаха,
Дающего нам зной и снег,
Мы возвратились с Четырдаха
Благополучно на ночлег.
О тяге к Востоку можно сказать и в отношении Александра Фомича Вельтмана (1800–1870) – известного русского беллетриста, сдружившегося с Пушкиным в Бессарабии, который начинал как поэт, создав, в том числе, стихотворения «Мухаммед» и «Зороастр». В последнем он, упоминая места, где родился и творил Зороастр, воспевает этого «огненного мага», что не могло не выглядеть тогда довольно оригинальным:
Почто над холмами Адербиджана
Светило дня так пламенно горит?
Не сильный ли противник Аримана
Благовестителем из Урмии летит?
Так, это он! Тревога воскипела,
И в Бактре Маг! Огнь вспыхнул до небес…
Взрастает кипарис; под мирной сенью древа
Лик солнца пламенно горит;
С священного огня блюстительница дева
Не сводит кроткий взор, задумчиво стоит.
Особо следует упомянуть о Платоне Григорьевиче Ободовском (1803–1861) – писателе, педагоге, драматурге и путешественнике, почти совсем забытом в наше время. Однако он еще в 1825 г., задолго до многих других поэтов, затронул «восточную тему» в своем «Персидском романсе»:

1612. Эрмитаж, Санкт-Петербург
Приди под шелковый намет,
Усни на мехе неизмятом!
Здесь скорпионов вредных нет,
Здесь розы дышат ароматом
И в чаше искрится шербет,
Взойди на светлый холм со мною,
Окинь глазами пышный сад!
В нем роскошь с милой простотою
Твой прояснят суровый взгляд.
Коль скучно средь зеркал гарема!
Возляг при зеркале ручья!
Послушай песни соловья:
Он Сади сладостный эдема.
Его живителен напев,
И звуков томных переливы
Отрадней для души тоскливой,
Чем песнь пленительная дев…
А в «Отрывках» из персидской повести «Орсан и Лейла», в которых чувствовалось влияние В.А. Жуковского, переведшего на русский язык «восточные» творения Томаса Мура, поэт вспомнил и об Исфахане, и о дворце персидского шаха, и о «райских вратах»:
Преданье было в Испагане,
Что души праведных царей,
И всех умерших в царском сане,
В час обновления луны,
Изходят из гробницы мирной
В врата с восточныя страны,
Одеты ризою эфирной;
С луной по небесам плывут
В предел безоблачного края;
И Персы те врата зовут
Вратами радостного рая.
Ободовский, как и многие другие поэты до него, и многие после, уносился в своем воображении в персидские дали, в Шираз, к гробнице поэта Хафиза (стихотворение с показательным названием «Персидский вечер»):
Знойный день не пламенеет
На прозрачных небесах;
Погляди, – лазурь темнеет,
Звезды искрятся в водах…
И в гостиницах Шираза
Сонных персов не живит
Звук чудесного рассказа
И кальян не веселит.
Все уснули за шербетом
На узорчатых коврах;
Вот взошел над минаретом
Месяц в сребряных лучах.

Поэт Лукьян Андреевич Якубович (1805–1839) – один из ярких представителей ориенталистской струи в русской поэзии, написавший много стихов о Кавказе, так же как и Ободовский или Полонский обращался к Корану и «улетал» в своих мечтах в Персию, ведь ему не посчастливилось много путешествовать. Ему принадлежит настоящий гимн стране великой истории и поэзии под названием «Иран»:
Ликуй Иран! Твоя краса
Как отблеск радуги огнистый!
Земля цветет – и небеса.
Как взоры гурий, вечно чисты!
Так возлюбил тебя Аллах,
Иран, жемчужина Востока,
И око мира, падишах,
Сей Лев Ислама, меч Пророка!
Твой воздух амброй растворен,
Им дышит лавр и мирт с алоем;
Здесь в розу соловей влюблен,
Поэт любви томится зноем.
А в своем «Подражании Саади» (1836) Якубович вот так пересказывает одну из притч знаменитого персидского лирика:
Молвил я однажды другу:
Сделай мне одну услугу,
Приложи к устам печать,
Научи меня молчать.
И добро и зло бывает
В разговорах наших сплошь,
Враг всё злое замечает,
От злоречья как уйдешь?
«Друг! — заметил мне приятель. —
Терпит злых и Сам Создатель,
Любишь мед — люби и сот;
Из врагов же лучший тот,
Кто добра не примечает,
Видя в нас один порок:
Чрез него — то получает
Человек прямой урок!»
Василий Жуковский
В том же ряду поклонников Востока следует назвать и Василия Андреевича Жуковского (1783–1852) – «первого романтика» в русской поэзии, чья звезда блистала еще в допушкинский период. Именно ему Пушкин посвятил свои пламенные строки:

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.
Жуковский был первым, кто явил читателю русский язык в его истинной певучести, звучности и музыке стиха. Но при этом, будучи образованнейшим человеком, обладавшим несравненным даром переводчика, поэт сделал доступными для русских читателей, в том числе своими разнообразными балладами (он написал 36 баллад), эпическими и драматическими произведениями (более 12), многие лучшие образцы мировой литературы, будь то немецкая и английская поэзия или перевод «Одиссеи» Гомера (недаром Пушкин называл поэта «гением перевода»). В этом же ряду стоят и восточные поэмы Жуковского, такие как индийская поэма «Наль и Дамаянти» и стихотворная повесть «Пери и ангел», которая была написана поэтом в 1821 г. и представляла собой перевод второй части «Рай и Пери» из поэмы Т. Мура «Лалла Рук».
В поэме Мура, стилизованной под восточную поэзию, рассказывалось о путешествии индийской принцессы Лаллы Рук из Дели в Кашмир к ее жениху, бухарскому принцу Алирису. В пути Алирис, испытывая невесту, сопровождает ее под видом певца Фераморза и рассказывает ей различные поучительные истории. Одним из таких рассказов и является «Рай и Пери». Как объяснил Жуковский, «Пери – воображаемые существа, ниже ангелов, но превосходнее людей», которые «не живут на небе, но в цветах радуги... и подвержены общей участи смертных». В своей повести он воспроизвел многие пестрые приметы восточной жизни, вспоминая и Персию. «Я знаю тайны Хильминара...» – так писал он о развалинах Персеполя – древней столицы этой страны. Лишь краткая цитата из начала повести может показать, как под пером поэта рождалась «восточная стилизация» на русской почве:
Однажды Пери молодая
У врат потерянного рая
Стояла в грустной тишине;
Ей слышалось: в той стороне,
За неприступными вратами,
Журчали звонкими струями
Живые райские ключи.
И неба райского лучи
Лились в полуотверзты двери
На крылья одинокой Пери;
И тихо плакала она
О том, что рая лишена.

В период работы над поэмой Жуковский создал еще стихи «Лалла-Рук» (здесь он раньше Пушкина выразился: «Гений чистой красоты…») и «Явление поэзии в виде Лалла-Рук».
В последнем он признался в своем влечении к Востоку:
К востоку я стремлюсь душою!
Прелестная впервые там
Явилась в блеске над землею
Обрадованным небесам.
Как утро юного творенья,
Она пленительна пришла
И первый пламень вдохновенья
Струнами первыми зажгла.
А в 1846–1847 гг. поэт написал, как он сам это обозначил, «Персидскую повесть, заимствованную из царственной книги Ирана (Шах-наме)» под названием «Рустем и Зораб» с подзаголовком в оглавлении «Вольное подражание Рюккерту». Эта поэма представляла собой переложение перевода немецким поэтом Фридрихом Рюккертом (1838) одного из эпизодов поэмы «Шах-наме» (или «Шахнаме») великого персидского поэта Фирдоуси. «Шах-наме» или «Книга царей» – это грандиозная эпопея иранской истории, основанная на народных преданиях и письменных источниках. В ней рассказывается о сменявших друг друга династиях, о царях и богатырях, о различных иранских народах. В качестве главной в поэме проходит тема борьбы иранцев против туранцев, воинственных племен, живших на северо — востоке от Ирана, что олицетворяло свойственное учению зороастризма понимание извечной борьбы двух начал – добра и зла, света и тьмы, Ормузда и Ахримана.
Из всех богатырей самым могучим и любимым для Фирдоуси и народов Ирана являлся Ростем (у Жуковского – Рустем). Его подвиги составляют содержание многих эпизодов поэмы, в том числе эпизода о Ростеме и его сыне Сохрабе, или Сухрабе (у Жуковского – Зораб). В итоге благодаря смелому Ростему Иран побеждает в борьбе с Тураном, Ахриману так и не удается победить богатыря руками его могучего сына.
Жуковский во многих местах своей повести значительно отходит и от оригинала Фирдоуси, и от поэмы Рюккерта. Он полностью изменил стихотворный размер произведения, пользуясь вольными, короткими ямбами без рифм или почти ритмизованной прозой. Всю поэму он разделил на десять, а не на двенадцать книг, как Рюккерт, дал этим книгам свои названия, а в заключительной книге поэмы написал два собственных эпизода, которых нет ни в «Шах-наме», ни у Рюккерта, причем оба эти эпизода можно смело отнести к лучшим творениям зрелого поэта.

Иллюстрация из издания «Шах-наме» XVI века.
Британская библиотека, Лондон
Из книги царственной Ирана
Я повесть выпишу для вас
О подвигах Рустема и Зораба.
Заря едва на небе занялася,
Когда Рустем, Ирана богатырь,
Проснулся… –
так начинает свою поэму Жуковский, и проследовать за ним в мир иранской истории сегодня может каждый желающий. Персия же еще не раз упоминалась в творениях поэта. Процитируем лишь отрывок из его стихотворения «Бородинская годовщина» (1839), доказывающий, что он внимательно следил за битвами на Востоке и схваткой с Персией, в которой сложил свою голову Грибоедов (кстати, поэты прекрасно знали друг друга и даже собирались в 1828 г. вместе отправиться в путешествие в Париж):
Много с тех времен, столь чудных,
Дней блистательных и трудных
С новым зрели мы царем;
До Стамбула русский гром
Был доброшен по Балкану;
Миром мстили мы султану;
И вскатил на Арарат
Пушки храбрый наш солдат.
И все царство Митридата
До подошвы Арарата
Взял наш северный Аякс;
Русской гранью стал Аракс;
Арзерум сдался нам дикий;
Закипел мятеж великий;
Пред Варшавой стал наш фрунт,
И с Варшавой рухнул бунт.
«Северным Аяксом» поэт называл Паскевича, и не случайно он упомянул об Арзеруме – месте странствий Пушкина. Немаловажно, что любовь Жуковского к истории Востока сочеталась у него с тягой в этот мир в качестве путешественника. Еще в 1809 г. в песне с названием «Путешественник» он мечтал о таком пути:
Дней моих еще весною
Отчий дом покинул я;
Все забыто было мною –
И семейство, и друзья.
В ризе странника убогой,
С детской в сердце простотой
Я пошел путем — дорогой –
Вера был вожатый мой.
И в надежде, в уверенье
Путь казался недалек.
«Странник – слышалось – терпенье!
Прямо, прямо на восток».
В 1815 г. в стихотворении «Песня» звучал тот же страннический мотив:
К востоку, все к востоку
Стремлению земли –
К востоку все, к востоку
Летит моя душа;
Далеко на востоке,
За синевой лесов,
За синими горами
Прекрасная живет.
«Восток, восток», «синие горы», «прекрасная живет...» – эти стихи писались больше чем за сто лет до «Персидских мотивов» С. Есенина! Как все-таки в поэзии важны сквозные темы, вдохновлявшие многие поколения поэтов, особенно если они рождались на основе их личного опыта и собственных странствий. Жуковскому суждено было умереть в апреле 1852 г. в Баден-Бадене, откуда его тело было перевезено в Петербург в Александро-Невскую лавру. Будучи не раз в Баден-Бадене, я всегда поражался, как уютно и даже по-домашнему разместился на Лихтенштальской аллее, где так любил гулять и сам Жуковский, и П.А. Вяземский, и И.С. Тургенев, небольшой памятник поэту, который действительно стал первым романтиком России, смотревшим иногда и в сторону Персии…
Иранская мозаика: от Василия Жуковского до Владимира Соловьева. Часть II
Вильгельм Кюхельбекер и наследие Вазир-Мухтара

Восточная тема так или иначе звучала в первой половине XIX века в творениях многих поэтов-декабристов. Вильгельм Карлович Кюхельбекер (1797–1846), понимая важность освоения опыта чужих культур, писал в своей статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие»: «При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь, трудолюбии наших писателей Россия по самому своему географическому положению могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии. Фирдоуси, Гафиз, Саади, Джами ждут русских читателей». Кюхельбекер был очень близок с Грибоедовым, с которым он познакомился еще в 1817 г., и часто беседовал с ним в Тифлисе в 1822 г. о персидской поэзии. Там Грибоедов читал своему чуть более юному товарищу еще не законченные сцены из «Горя от ума».
Судьба преподнесла Кюхельбекеру самые суровые испытания: и каторжные работы, и крепостное заключение, и жизнь на поселении, и его поддерживало только творчество, в котором то и дело блистали восточные мотивы. Ему вообще была свойственна, по словам Е.А. Баратынского, «восторженная любовь к правде, к добру, к прекрасному, которой он все готов принести в жертву…» И таким романтиком Кюхельбекер остался до конца своих дней.
Ему выпало в 1820-1821 гг. путешествовать по Европе и он, отправляясь на Кавказ, мечтал и о персидском мире, рассказы о котором Грибоедова не могли не завораживать впечатлительного поэта. В своем стихотворении «К Пушкину» весной 1822 г. он писал о своих странствиях:
На Рейнских пышных берегах,
В Лютеции, в столице мира,
В Гесперских радостных садах,
На смежных небесам горах,
О коих сладостная лира
Поёт в златых твоих стихах,
Близ древних рубежей Персиды,
Средь томных северных степей
Я был добычей Немезиды,
Я был игралищем страстей!
Рубежи Персиды влекли Кюхельбекера, прежде всего, под влиянием Грибоедова, стихи которому он начал посвящать еще в Тифлисе в 1821 г., когда восторгался талантами автора «Горя от ума», правда, с привкусом трагического предчувствия собственной гибели раньше своего друга (и как поэт в этом ошибся!):

Но ты, ты возлетишь над песнями толпы!
Певец, тебе даны рукой судьбы
Душа живая, пламень чувства,
Веселье тихое и светлая любовь,
Святые таинства высокого искусства
И резво-скачущая кровь!
О! если я сойду к брегам туманной Леты
Как неизвестная, немая тень, —
Пусть образ мой, душой твоей согретый,
Ещё раз узрит день! —
Я излечу на зов твой из могилы,
Развью раскованные крилы,
К златому солнцу воспарю —
И жадно погружусь в бессмертную зарю!..
Кюхельбекер посвятил своему другу также неоконченную поэму «Уже взыграл Зефир прохладный...», датируемую 1822–1823 гг. В ней он, в частности, упоминал героинь поэм Джами «Юзуф и Зулейка» и Низами Гянджеви «Хозроф и Ширин» – Зулейка, Мириамь и Ширинь. А в 1823 г. в стихотворении «А.С. Грибоедову при отсылке к нему в Тифлис моих «Аргивян» (имеется в виду трагедия поэта «Аргивяне») Кюхельбекер опять рвется к своему другу, куда-то в персидские дали. Он обращается с призывом к собственной душе:
В одежде легкого тумана
Предстань певцу в прозрачной тьме,
На тихом злачном том холме,
Где, может быть, он запах Гулистана
Вбирает жадною душой,
Где старец вечной молодой,
Где Музы Фаристана
Парят над вещею главой!
Уже я зрю тебя, страна златая!
Поэту я вручу камен ахейских дар:
Не он ли воспитал во мне их чистый жар?
В 1829 г. в стихотворении «Памяти Грибоедова» Кюхельбекер вот так описал свое видение во сне призрака Грибоедова в час его кончины:
Но не было глубоких ран,
Свидетелей борьбы кровавой
На теле избранного славой
Певца, воспевшего Иран
И – ах! — сраженного Ираном.
Потом, по словам поэта, Грибоедов «что-то часто» стал «спускаться» в его темницу и звать его туда, где «вечны свет и красота, в страну покоя над звездами»… В 1831 г. Кюхля, вновь вспоминая своего друга Грибоедова, написал обширную (более 30 страниц книжного издания) поэму «Зоровавель», пожалуй, самое объемное в русской поэзии «персидское произведение». Оно посвящено Дарию I Великому, персидскому царю из династии Ахеменидов, правившему 36 лет в 522—486 гг. до н. э. Как мудрый и справедливый правитель, лучший из восточных деспотов, Дарий, покоривший более 30 народов, пользовался уважением даже своих врагов. Дара – так называет в своей поэме Дария Кюхельбекер, и рассказ «О Даре, прежних дней светиле, / И юных трех его рабах» он вкладывает в уста «беловласого старца», искусного рассказчика, который – и это, несомненно, дань Грибоедову, прожившему в Тавризе более 2,5 лет – начинает свой рассказ именно в Тавризе, покорившемся русскому оружию в 1828 г.:
Над войском русского царя
В стенах Тавриза покоренных
Бледнеет поздняя заря;
На минаретах позлащенных,
Дрожа, последний луч сверкнул;
Умолк вечерней пушки гул,
Умолк протяжный глас имана,
Зовущий верных чад Курана
Окончить знойный день мольбой.
Но в сизом дыме калиана,
Безмолвной окружен толпой,
Сидит рассказчик под стеной
Полуразрушенного хана
И говорит: «Да даст Алла
Устам моим благословенье!
Да будет речь моя светла
И стройно слов моих теченье!
Вот так сочно и колоритно, «по-персидски» звучала поэзия Кюхли, которому не суждено было, в отличие от Грибоедова и Хлебникова, увидеть персидские просторы. Но, кажется, что он каким-то чудесным образом все-таки перенесся далеко за Каспий, к скалам Накше-Рустам близ Персеполя, где находится усыпальница Дария и членов его семейства. Мне посчастливилось в 2009 г. прикоснуться к этим скалам, и я не мог тогда не восхититься увиденным. А Кюхельбекеру все это открылось на огромном расстоянии, благодаря только силе воображения. Любому, кто решит сегодня отправиться в Иран, можно лишь посоветовать обратиться к поэме несчастного автора и насладиться приметами персидского мира:
А серп чудесный, жнущий класы
Тех горних, тех немых полей,
В которых не бывал из века
Внимаем голос человека, —
Ладья надоблачных зыбей,
Орел эфира среброкрылый,
Могущий вождь небесной силы,
Пастух бессмертный стад ночных —
Луна, царица звезд златых,
Блеснула сквозь покров тумана
И в сладостный блестящий свет
Одела темный минарет,
Наш стан, Тавриз, поля Ирана
И дальных снежных гор хребет;
И старец к ней, лампаде ночи,
Безмолвствуя, подъемлет очи.
Но вот он вновь возвысил глас
И продолжает свой рассказ…

Эпоха Дария Великого была взлетом персидской истории, и Кюхельбекер, как никто другой, ярко и эмоционально показал это в своем описании ушедшего времени, когда народы половины мира шли на поклон к могущественному царю, что удивительно зримо изображено на стеллах Персеполя:
И все без спору, без медленья
Свершают уст его веленья…
Их не страшат ни смерть, ни ад;
Бросают огнь в дрожащий град,
Свергают в прах богов святыни,
Стирают скалы и твердыни…
С стяжанья тягостных трудов,
С благих даров щедроты неба,
С ловитвы, стад, вина и хлеба,
С начатков всех земных плодов
Царю приносят приношенья;
К приносам нудят сами всех,
И не принесть татьба и грех,
И не потерпят утаенья.
Тьма тем их; он же — он один;
Но те рабы — он властелин.
Речет: «Убейте!» — убивают;
Речет: «Щадите!» — и щадят;
Речет: «Разрушьте!» — разрушают;
«Создайте!» — зиждут и творят…
И на земле нет никого,
Под солнцем нет сильней его!
Поэма Кюхельбекера и сегодня поражает завидным энциклопедизмом, заложенным автором еще в лицейские годы. Ему даже пришлось для разъяснения имен, явлений и событий насытить свою поэму примечаниями, в которых он упоминает и Аллаха, и Зороастра, и Ормузда, и Фирдуси, и Шекспира, и Томаса Мура, разбирает суры Корана и скользит по просторам Египта, Турана, Аравии и Африки. Пожалуй, своей поэмой в отображении персидских реалий Кюхельбекер превзошел даже своего друга и учителя Грибоедова, который иранскую тематику в стихах почти не затрагивал, если не считать сохранившегося отрывка «Кальянчи» из его утерянной поэмы «Путник, или Странник». Кюхля настолько любил Вазир-Мухтара, что не мог не продолжить его искания и творения, заставляя и после смерти поэта-дипломата заново звучать «персидскую струну» русской поэзии.
В последние годы жизни, когда Кюхельбекер почти ослеп, он все больше связывал свою горестную судьбу с судьбой Грибоедова, а также Пушкина («Увы! Погиб довременно певец / Его злодейский не щадил свинец»). В стихотворении «До смерти мне грозила смерти тьма…» (1845) он поместил и вышеупомянутые слова о Пушкине, и вспомнил рано ушедших в мир иной Дельвига и Баратынского, и еще раз обратился к образу Грибоедова («он насмешливый, угрюмый», «с язвительной улыбкой на устах», «с челом высоким», «со скорбию во взорах и чертах»):
И что ж? неумолимый враг пороков
Растерзан чернью в варварском краю…
А этот край он воспевал когда-то,
Восток роскошный, нам, сынам заката,
И с ним отчизну примирил свою!
В том же 1845 г. в итоговом для Кюхельбекера стихотворении «Участь русских поэтов» он вновь, перечисляя те напасти, от которых гибли русские поэты – «петля», «тюрьма», «ссылка», «болезнь», «пуля», — уже в последний раз вспоминал «персидского странника» Грибоедова:
Или же бунт поднимет чернь глухую,
И чернь того на части разорвет,
Чей блещущий перунами полёт
Сияньем облил бы страну родную.
До смерти Кюхли оставалось тогда чуть больше девяти месяцев, «болезнь» уже съедала его последние силы, но ему все-таки суждено было на 17 с лишним лет пережить своего кумира, хотя он и предрекал свой уход в Лету раньше Грибоедова.
Федор Тютчев

Прожив более 20 лет в Европе, преимущественно в Мюнхене и Турине, Федор Иванович Тютчев (1803–1873) тем не менее прекрасно знал восточную историю и лирику, и, по мнению некоторых филологов, выстраданный им жанр небольших философских стихотворений, в которых как будто сжимается до «краткого фрагмента» целая ода, вобрал в себя все лучшее, что завещали Саади, Гафиз или Хайям. Но, конечно, сделал все это поэт на русской почве, которая, несмотря на кажущуюся отдаленность от нее Тютчева, всегда диктовала ему свои законы. Поэт, будучи по своим взглядам славянофилом, умудрялся делать и превосходые переводы немецкой лирики, и не забывать о восточных мотивах.
Очень звонко мусульманская тематика зазвучала еще в стихотворении Тютчева «Олегов щит»:
«Аллах! Пролей на нас свой свет!
Краса и сила правоверных!
Гроза гяуров лицемерных!
Пророк Твой – Магомет!
О наша крепость и оплот!
Великий Бог! Веди нас ныне,
Как некогда ты вел в пустыне
Свой избранный народ!..»
А в конце 20-х годов Тютчев, потрясенный, как и многие другие русские поэты «Западно-Восточным диваном» – потрясающим творением великого И.-В. Гете, воссоздающим историю и культуру Персии, написал свою стилизацию про «воздух Востока», предназначение истинной поэзии и песни Гафиза:

Запад, Норд и Юг в крушенье,
Троны, царства в разрушенье, —
На Восток укройся дальний,
Воздух пить патриархальный!..
В играх, песнях, пированье
Обнови существованье!..
То у пастырей под кущей,
То в оазисе цветущей
С караваном отдохну я,
Ароматами торгуя:
Из пустыни в поселенья
Исслежу все направленья.
Песни Гафица святые
Усладят стези крутые:
Их вожатый голосистый,
Распевая в тверди чистой,
В позднем небе звезды будит
И шаги верблюдов нудит…
И сие высокомерье
Не вменяйте в суеверье;
Знайте: все слова поэта
Легким роем, жадным света,
У дверей стучатся рая,
Дар бессмертья вымоляя!..
В 1851 г. Тютчев еще раз обратился к Гете, воссоздав, отталкиваясь от него, манящий мир Персии:
Ты знаешь край, где мирт и лав растет,
Глубок и чист лазурный неба свод,
Цветет лимон, и апельсин златой
Как жар горит под зеленью густой?..
Ты был ли там? Туда, туда с тобой
Хотела б я укрыться, милый мой.
В этом «персидском мире» есть и «высь с стезей по крутизнам», и «в ущельях гор отродье змей», и «дом на каменных столпах», и «зал и купол весь в лучах». Поэту не дано было увидеть пестрый Восток, но в его поэтических грезах он все равно появлялся…
Иранская мозаика: от Василия Жуковского до Владимира Соловьева. Часть III
Афанасий Фет
Афанасий Афанасьевич Фет (1820–1892) вошел в русскую литературу как один из самых ярких представителей «чистого искусства», который не затрагивал в своих произведениях животрепещущих социальных вопросов, стремился уйти от повседневной действительности в «светлое царство мечты», воспевал «вечные ценности» и «абсолютную красоту», в первую очередь любовь и природу. Его творчество отличалось изящностью и тонкостью поэтического настроения, его стихи часто были сплетены из намеков и красивостей. Послушаем знаменитый образец такой поэзии и задумаемся, откуда она берет свои истоки:

Шепот, робкое дыханье,
Трели соловья,
Серебро и колыханье
Сонного ручья,
Свет ночной, ночные тени
Тени без конца,
Ряд волшебных изменений
Милого лица,
В дымных тучках пурпур розы,
Отблеск янтаря,
И лобзания, и слёзы,
И заря, заря!..
«Соловей», «ручей», «роза», «слезы» – что это, как ни типичные образы восточной поэзии, которая начиналась когда-то именно в Персии, или, точнее сказать, в Ширазе – городе Хафиза и Саади – несомненной столице мировой поэзии. А вот и еще знакомые всем строки Фета:
На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит;
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.
Читаешь эти стихи и как будто снова попадаешь в Шираз и Исфахан… По-моему, в русской поэзии вообще нет более «восточного», «персидского» поэта, чем Афанасий Фет.
И это доказывают не единичные его стихотворения, а целая их масса, их общий настрой и порыв, причем это касается произведений самых разных периодов в жизни поэта. Стихотворение «Одалиска», например, было написано в 1840 г.:
Вот груди – жаркий пух, вот взоры – звезды ночи,
Здесь цитры звон и сладостный шербет.
О юноша, прекрасный Аллы цвет,
Иди ко мне лобзать живые очи
И грудь отогревать под ризой тихой ночи!

А вот стихотворение 1841 года:
Из слез моих много родится
Роскошных и пестрых цветов,
И вздохи мои обратятся
В полуночный хор соловьев.
Дитя! Если ты меня любишь,
Цветы все тебе подарю,
И песнь соловьиная встретит
Под милым окошком зарю.
А это диалог из стихотворения «Соловей и роза» (1847):

за Хумаем, стоящим у ворот.
Миниатюра. «Три поэмы» Хаджу Кермани.
1396 г. Британская библиотека, Лондон.
Она
Ты поешь, когда дремлю я,
Я цвету, когда ты спишь;
Я горю без поцелуя,
Без ответа ты грустишь.
Но ни грусти, ни мученья
Ты обманом не зови:
Где же песни без стремленья?
Где же юность без любви?
Он
Дева-роза, доброй ночи!
Звезды в небесах.
Две звезды горят, как очи,
В голубых лучах;
Две звезды горят приветно
Нынче, как вчера;
Сон подкрался незаметно...
Роза, спать пора!
В том же 1847 г. поэт написал еще два стихотворения в цикле «Подражания восточному», и, конечно, они о любви:
Не дивись, что я черна,
Опаленная лучами;
Посмотри, как я стройна
Между старшими сестрами…
Розой гор меня зови;
Ты красой моей ужален,
И цвету я для любви,
Для твоих опочивален…
Я пройду к тебе в ночи
Незаметными путями;
Отопрись – и опочий
У меня между грудями.
Откуда же у человека, который очень мало путешествовал, долгое время жил в провинции и был офицером, такая страсть к Востоку и его поэзии? Именно из любви к персидской лирике, которая диктовала и общий настрой, и столь любимый Фетом размер восьмистиший. Часть своих стихотворений поэт прямо так и называл «Из Саади» (1847), «Подражание восточным стихотворцам» (1865):
Вселенной целой потеряв владенье,
Ты не крушись о том, оно ничто.
Стяжав вселенной целой поклоненье,
Не радуйся ему – оно ничто.
Минутно наслажденье и мученье,
Пройди ты мимо мира – он ничто.
О любви к персидской поэзии знали многие друзья и коллеги Фета по писательскому цеху. В сентябре 1859 г. И. С. Тургенев по просьбе поэта привез из-за границы собрание стихотворений Гафиза в переводе немецкого поэта и философа Георга Даумера. Фет сразу принялся за переводы. «Дело в том, – писал он Дружинину, – что я в настоящее время Гафиз, то есть читаю и перевожу эту прелестную розу Ирана». В итоге в созданный им цикл стихотворений «Из Гафиза» вошло 27 работ. Самое любопытное, что Фет, работая с немецкими переводами, сделанными Даумером, не знал, что эти переводы были всего лишь вольными подражаниями немецкого писателя или, скорее всего, даже его оригинальными произведениями. В то время русским поэтам вообще было свойственно переводить персидских лириков не с фарси, а с немецких и французских переводов, что не могло, конечно, не сказываться на полученных результатах. Тем не менее, несмотря на это обстоятельство, мы можем сегодня снова и снова наслаждаться «персидскими подражаниями» русского образца, сделанными Фетом.
В своем предисловии к циклу Фет, «представляя на суд истинных любителей поэзии небольшой букет, связанный в моём переводе из стихотворных цветов персидского поэта», писал:
«Даже поверхностное знакомство с нашим поэтом служит отрадным подтверждением двух несомненных истин: во-первых, что дух человеческий давно достиг этой эфирной высоты, которой мы удивляемся в поэтах и мыслителях нашего Запада; во-вторых, что цветы истинной поэзии неувядаемы, независимо от эпохи и почвы, их производившей. Напротив того: если они действительно живые цветы, экзотическое их происхождение сообщает им особенную прелесть в глазах любителей. Новым подтверждением тому, что Азия – страна чудес и вопиющих противоположностей, является судьба, или, лучше сказать, странное духовное развитие нашего поэта».
Далее Фет кратко описал биографию Гафиза и закончил свое предисловие словами: «Переведённые мной песни относятся ко второй эпохе его деятельности, и я желал бы, чтобы читатель испытал хотя часть того наслаждения, которое выпало на долю моему труду».
Первые строки стихотворений «персидского цикла» говорят у Фета сами за себя: «Ах, как сладко, сладко дышит…», «В доброй вести, нежный друг, не откажи…», «В царство розы и вина приди…», «Ветер нежный, окрыленный…», «Гиацинт своих кудрей…», «Грозные тени ночей…», «Сошло дыханье свыше…». И вновь главный пульс стихов определяет любовь:

Ветер нежный, окрыленный,
Благовестник красоты,
Отнеси привет мой страстный
Той одной, что знаешь ты.
Расскажи ей, что со света
Унесут меня мечты,
Если мне от ней не будет
Тех наград, что знаешь ты.
Поэт повествовал и повествовал о любви:
Мы славим милую в стихах,
И нас, быть может, ждет успех, –
Пленительным пленен поэт,
А это уж никак не грех!
И любовь эта была разлита везде, в природе и в небесах, в животном мире и в мире растений:
О, если бы озером был я ночным,
А ты луною, по нем плывущей!
О, если б потоком я был луговым,
А ты былинкой, над ними растущей!
О, если бы розовым был я кустом,
А ты бы розой, на нем цветущей!
О, если бы сладостным был я зерном,
А ты бы птичкой, его клюющей!
Фет, опережая Сергея Есенина на почти 65 лет, в той же манере «персидских мотивов», еще и еще раз писал о смысле жизни:
Если вдруг, без видимых причин,
Затоскую, загрущу один,
Если плоть и кости у меня
Станут ныть и чахнуть без кручин,
Не давай мне горьких пить лекарств:
Не терплю я этих чертовщин.
Принеси ты чашу мне вина,
С нею лютню, флейту, тамбурин.
Если это не поможет мне,
Принеси мне сладких уст рубин.
Если ж я и тут не исцелюсь,
Говори, что умер Шемзеддин.
Поэт постоянно вспоминал в своем «персидском цикле» и самого кудесника Гафиза:
О помыслах Гафиза
Лишь он один да Бог на свете знает.
Ему он только сердце
Греховное и пылкое вверяет.
К восточным стихам поэта можно смело отнести и 6 стихотворений, включенных Фетом в цикл «Из Рюккерта» и написанных примерно в 1865 г. Немецкий поэт Фридрих Рюккерт (1788–1866) стал известным в России благодаря его переводу части поэмы «Шах-наме» («Шахнаме») персидского лирика Фирдоуси и переложению его стихов Василием Жуковским. Процитируем одно из стихотворений Фета из этого цикла и еще раз убедимся в несомненной «восточной окраске» его творчества:
И улыбки, и угрозы
Мне твои – все образ розы;
Улыбнешься ли сквозь слезы,
Ранний цвет я вижу розы,
А пойдут твои угрозы,
Вспомню розы я занозы;
И улыбки, и угрозы
Мне твои – все образ розы.
Большое значение для русской литературы имели также талантливые переводы Афанасием Фетом лучших образцов западной литературы. Он перевел всего «Фауста» Гете, а также произведения целого ряда латинских поэтов: Горация, Ювенала, Катулла, Овидия, Вергилия и многих других. Но все равно лично для меня он навсегда останется русским певцом, но с «восточным колоритом», вобравшим в себя и пение исфаханских соловьев, и цветение ширазских роз… Послушаем, напоследок, как изящно и чарующе звучит его «Восточный мотив» (1882), созданный уже на склоне жизни:
С чем нас сравнить с тобою, друг прелестный?
Мы два конька, скользящих по реке,
Мы два гребца на утлом челноке,
Мы два зерна в одной скорлупке тесной,
Мы две пчелы на жизненном цветке,
Мы две звезды на высоте небесной.
Аполлон Майков
Не обошел персидской темы и Аполлон Николаевич Майков (1821–1897) с его стойким интересом к Востоку («Еврейские песни», «Молитва Бедуина», «Вертоград»,
«У Мраморного моря», «Сон негра», «Разрушение Иерусалима» и т.д.). Он, как и многие поэты, увлекался Гете, а через его «Западно-восточный диван» обращал свои взоры к Персии. Так, в стихотворении «Миньон (Из Гете)» Майкову уже воочию видятся ее просторы:

Ах, есть земля, где померанец зреет,
Лимон в садах желтеет каждый год;
Таким теплом с лазури темной веет,
Так скромно мирт, так гордо лавр растет!
Где этот край? Туда, туда
Уйти бы нам, мой милый, навсегда!
Поэт готов убежать в дивные края, и зовет его туда снова бессмертный Гафиз. Как с восторгом писал поэт в своем стихотворении «Из Гафиза»:
Встрепенись, взмахни крылами,
Торжествуй, о сердце, пой,
Что опутано сетями
Ты у розы огневой,
Что ты в сети к ней попалось,
А не в сети к мудрецам,
Что не им внимать досталось
Дивным песням и слезам…
А завершает стихотворение поэт с надеждой на «пылкую смерть», обращаясь к самому себе, к своему сердцу:
Но зато умрешь мгновенно
Вместе с песнею своей
В самый пыл – как вдохновенный
Умирает соловей.
Владимир Соловьев
Владимир Сергеевич Соловьёв (1853–1900) – русский поэт, публицист, философ и богослов, который стоял у истоков русского «духовного возрождения» начала XX века и оказал огромное влияние на поэтов Серебряного века, не мог обойти в своем творчестве «персидскую тему». Он фактически раньше многих других понял ее значимость и определил вектор движения России в сторону Востока как спасительный и одухотворяющий. В своем программном стихотворении «Ex oriente lux» («Свет с Востока») он описал этот вектор, рассказав о противоборстве Востока и Запада, Персии и Древнего Рима:

Портрет работы Н. А. Ярошенко, 1892 г.
«С Востока свет, с Востока силы!»
И, к вседержительству готов,
Ирана царь под Фермопилы
Нагнал стада своих рабов.
Но не напрасно Прометея
Небесный дар Элладе дан.
Толпы рабов бегут, бледнея,
Пред горстью доблестных граждан.
И кто ж до Инда и до Ганга
Стезею славною прошел?
То македонская фаланга,
То Рима царственный орел.
Как писал поэт, в период падения Рима «душа вселенной тосковала // О духе веры и любви!», и Восток ответил на этот вызов, а Россия должна рано или поздно выбрать, что из восточного наследия возьмет она с собой в будущее:
И слово вещее не ложно,
И свет с Востока засиял,
И то, что было невозможно,
Он возвестил и обещал.
И, разливаяся широко,
Исполнен знамений и сил,
Тот свет, исшедший из Востока,
С Востоком Запад примирил.
О, Русь! в предвиденье высоком
Ты мыслью гордой занята;
Каким же хочешь быть Востоком:
Востоком Ксеркса иль Христа?
Как и его предшественники, Владимир Соловьев тоже написал свой цикл «Из Гафиза», в который включил 10 стихов, с характерными названиями: «Всех, кто здесь в любовь не верит...», «В мрачной келье замкнул я все думы свои...», «Если б ведал ум, как сладко...», «Не мани меня ты, шейх...», «Зачем ты пьешь? я знать желаю!..» и т.д. Послушаем, как зазвучали в переводах Соловьева «персидские максимы»:

Могольская миниатюра, ок. 1600 г.
Языков так много, много!
И во всех звучит одно:
По-ромейски, по-фарсийски —
Верь в любовь и пей вино!
* * *
От улыбки твоей благодатной
Роз кустарник расцвел ароматный,
А любви моей взоры горят
В ярком пурпуре этих гранат.
Вспомнил поэт и самого «волшебника» Гафиза, назвав его праотцем:
Воды, шумящие волны, – потоп угрожает!
Мудро в ковчеге себя сберегли вы –
В погребе винном, сидит там с сынами
Пра’отец наш, Га’физ благочестивый.
Здравствуй, о здравствуй, Ной нашего века!
Ты не отверг ни единой скотины, –
Только педант да ханжа нечестивый
Гибнут упрямо средь водной пучины.
Удивительно, но Соловьев именно в Хафизе увидел в конце XIX в. образ «духовного спасителя» Ноя, предвоститив тем самым тот огромный интерес к фигуре этого поэта, который пронизывал насквозь весь Серебряный век.
«Персидские ноты» Серебряного века и советской поэзии. Часть I

Ширазская эта красавица
С мускусной родинкой — мне
Не раз еще ночью предъявится
Обнаженной в морозной луне!
Красавица с родинкой мускусной,
Живет лишь Гафизов стих,
И вкус его, терпкий и уксусный,
Запекся в губах моих!
М.А. Зенкевич
Желтый лев на фуражке сарбаза.
Тень сарбаза плывет вдоль стены.
Знаменитые розы Шираза
Увядают, жарой спалены.

Позолотой покрыв минареты,
Солнце медленно падает вниз.
В этом городе жили поэты
Саади, Кермани и Хафиз.
А.А. Сурков
Я спросил в Ширазе розу красную:
– Почему не первый век подряд,
Называя самою прекрасною,
О тебе повсюду говорят?
Почему ты, как звезда вечерняя,
Выше роз других вознесена?
– Пел Хафиз, – сказала роза чермная, –
Обо мне в былые времена.
Расул Гамзатов
В начале ХХ века
С конца XIX века в России произошла новая вспышка интереса к Востоку и исламу в русской литературе. Это было связано во многом с пробуждением восточных стран от «долгой спячки», выходом их на открытую арену исторических событий, развитием культуры этих стран, в которой ислам продолжал играть колоссальную роль. «Ориентальные мотивы» проявились тогда, в частности, в творчестве замечательного лирика Алексея Николаевича Апухтина (1840-1903) (баллады и «Подражание арабскому») и Мирры Александровны Лохвицкой (1869-1905) («На пути к Востоку. Драматическая поэма», «Сказка о Принце Измаиле, Царевне Светлане и Джемали Прекрасной»), поэтессы, которая отличалась мистическими и любовными красками в ее творческой палитре и почерпнула тягу к дальним странам во многом от своего друга К. Бальмонта.
Лев Николаевич Толстой в те годы отмечал, что миллиарды людей сотни лет просеивали лучшее «через решето и сито времени. Отброшено все посредственное, осталось самобытное, глубокое, нужное: остались Веды, Зороастр, Будда, Лаодзы, Конфуций, Ментуе, Христос, Магомет, Сократ».
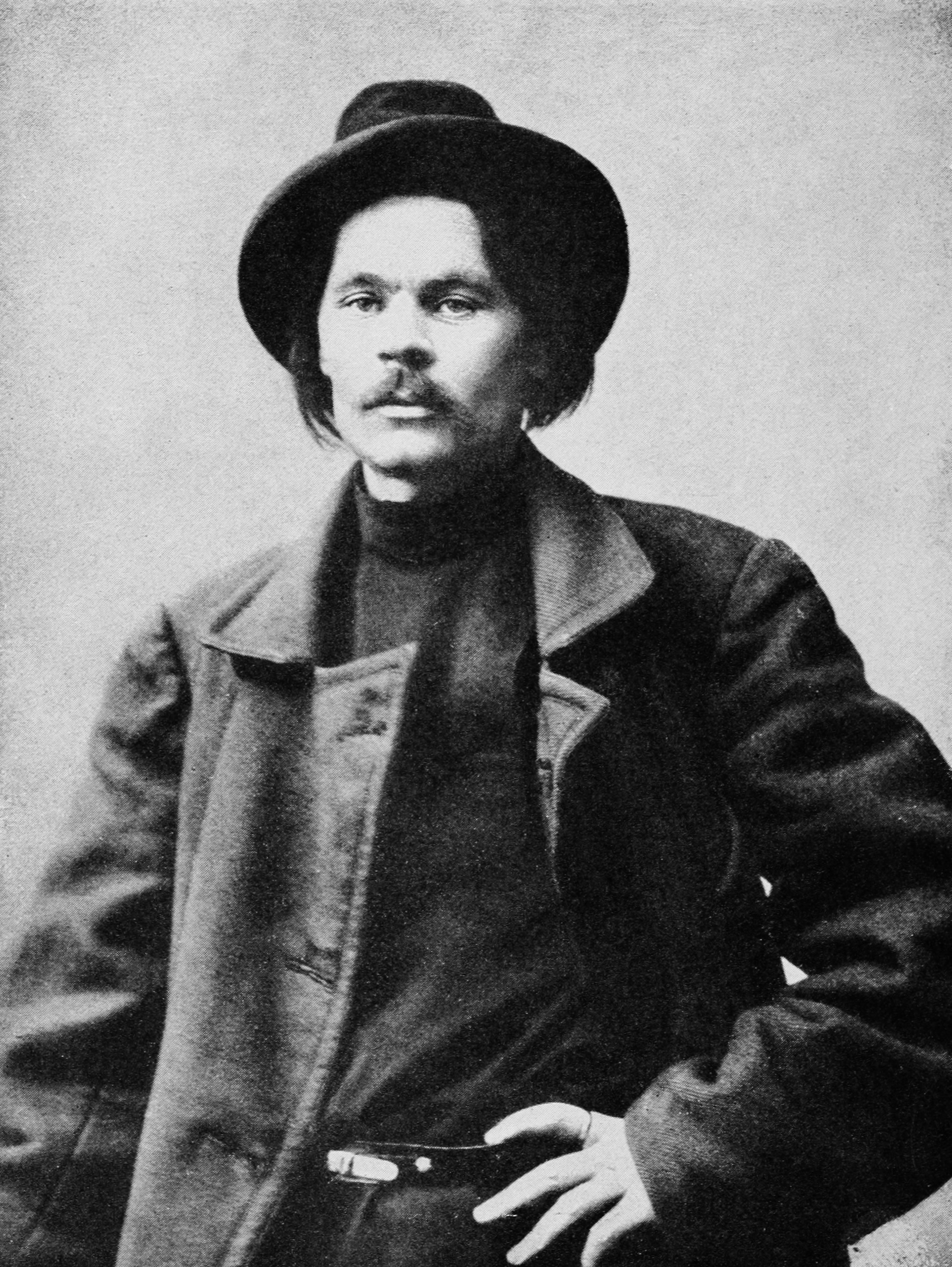
Молодой Максим Горький (1868-1936), начинавший как поэт, еще в 1895 г. в своей первой публикации в «Самарской газете» процитировал вольный перевод из Омара Хайяма. В дальнейшем он не раз обращался к творчеству этого великого поэта. Известно, что в библиотеке писателя уже в 1901 г. был экземпляр «Голестана» Саади в переводе И. Холмогорова. По словам Горького, Саади был «сладкий, как мед», а Хайя
м был подобен «вину, смешанному с ядом». В 1911 г. в «Сказках об Италии» Горький поместил «Стихи поэта Кермани», в которых он довольно неожиданно, намекая на творчество ширазского поэта-суфия Кермани конца XIII-начала XIV в., прославлял образ женщины-Матери (вспомним его роман «Мать»). Веселого поэта Кермани, помогавшего своими стихами победить грозного правителя Тимурленга, Горький не случайно сделал одним из героев своих сказок. Чтобы убедиться, что и «великий пролетарский писатель» не избежал любви к «персидскому наследию», послушаем, как в этом стихотворении зазвучали иранские ноты:
Что прекрасней песен о цветах и звездах?
Всякий тотчас скажет: песни о любви!
Что прекрасней солнца в ясный полдень мая?
И влюбленный скажет: та, кого люблю!
Ах, прекрасны звезды в небе полуночи — знаю!
И прекрасно солнце в ясный полдень лета — знаю!
Очи моей милой всех цветов прекрасней — знаю!
И ее улыбка ласковее солнца — знаю!
Но еще не спета песня всех прекрасней,
Песня о начале всех начал на свете,
Песнь о сердце мира, о волшебном сердце
Той, кого мы, люди, Матерью зовем!
В некоторых рассказах Горького появлялись и образы иранцев, как в рассказе «Весельчак» (1916). Позднее Горький, как один из основателей издательства «Всемирная литература», немало способствовал новым переводам персидской классики, к которым были привлечены такие иранисты, как С.Ф. Ольденбург, В.В. Бартольд, Е.Э. Бертельс, А.А. Ромаскевич, А.А. Фрейман, Б.Н. Заходер и другие.
Русский «деревенский» поэт Николай Алексеевич Клюев (1884-1937) тоже не забывал о «персидских мотивах», когда писал: «Недаром мерещится Мекка // Олонецкой курной избе...», или сам себе предсказывал трагическую смерть в сибирской ссылке: «И помянут пляскою дервиши // Сердце-розу, смятую в Нарыме...» Этот выходец из крестьянской среды и один из величайших поэтов-мистиков ХХ века мог на равных, по свидетельствам современников, беседовать с профессорами философии Петербургского университета на немецком языке и уточнять приведенные ими цитаты. На удивленные вопросы он скромно отвечал: «Маракую маленько по-басурмански». Поэт мог «мароковать» также и по-английски, и по-французски, и, вероятно, на каком-либо из восточных языков. Он, без сомнения, оказал сильное «восточное» влияние на Есенина, который позднее доказал это своим «персидским циклом». Очень любопытно, что, по утверждению западного исследователя Эммануила Райса, Клюев в 1906–1907 гг. был ответственным за конспиративную квартиру секты хлыстов в Баку, где происходили встречи с «иранскими суфиями» и «представителями индийских религиозных кругов».
По утвеждениям некоторых друзей Клюева, примерно в это время он совершил свое путешествие в Персию, Индию и даже Китай, но твердых подтверждений этому нет. На мой взгляд, если бы это действительно произошло, то не могло бы не сказаться явно и открыто на творчестве человека, постоянно искавшего «духовные глубины» и смысл бытия. А так уж слишком мало персидских упоминаний, мотивов, намеков в поэзии Клюева. Впрямую он только раз упомянул Шираз в 1917-1918 гг., да и то косвенно, вскользь (неужели так скупо мог бы описать персидские дали поэт, который там побывал; вспомним Есенина, который даже на границе с Персией, в Баку, дал волю своим фантазиям):

На божнице табаку осьмина
И раскосый вылущенный Спас,
Но поет кудесница-лучина
Про мужицкий сладостный Шираз.
А Марина Ивановна Цветаева (1892-1941) писала в своем «Стеньке Разине»:
А над Волгой – ночь,
А над Волгой – сон.
Расстелили ковры узорные.
И возлег на них атаман с княжной
Персиянкою – Брови Черные.
И не видно звезд, и не слышно волн,
Только весла да темь кромешная!
И уносит в ночь атаманов челн
Персиянскую душу грешную…
Марина Цветаева, написав триптих «Стенька Разин» в 1917 г., продолжила традицию воспевания трагической истории, которая приключилась с казачьим атаманом, захватившим во время набега на каспийское побережье «персидскую княжну», полюбившим ее, но вынужденным из-за осуждения товарищей погубить красавицу, бросив ее с корабля в воду. Эта история стала народной после потрясающего успеха знаменитой песни поэта, фольклориста и этнографа Дмитрия Николаевича Садовникова (1847-1883) «Из-за острова на стрежень…» (1883), в которой Разин убивает княжну, «чтобы не было зазорно перед вольными людьми, перед вольною рекой». Автор песни в «революционно-демократических» традициях того времени сочувствует залихватскому атаману, борцу за свободу:
Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выбегают расписные,
Острогрудые челны.
На переднем Стенька Разин,
Обнявшись с своей княжной,
Свадьбу новую справляет,
И веселый и хмельной.

В. И. Суриков, 1895
И жестокий поступок не вызывает, согласно автору, у Стеньки Разина особых переживаний:
Мощным взмахом поднимает
Полоненную княжну
И, не глядя, прочь кидает
В набежавшую волну...
«Что затихли, удалые?..
Эй ты, Фролка, черт, пляши!..
Грянь, ребята, хоровую
За помин ее души!..»
Примерно такое же восторженное отношение к Степану Разину сквозит и в произведениях двух поэтов, побывавших в Персии. Первый из них, Василий Васильевич Каменский, о котором подробно рассказывалось выше, в очень важной для его творчества поэме «Степан Разин» (1914-1918, 1927-1928) тоже восхищался «казацкой вольницей» на Волге:
Вольница шумела:
«Волги мало нам, —
Мы из Астрахани двинем
В море по волнам,
Двинем в Персию — туда,
Где восточная звезда
Нам сулит
Ковры-дары.
Айда!
Айда!
Айда-а-а-а-а-а-а!»
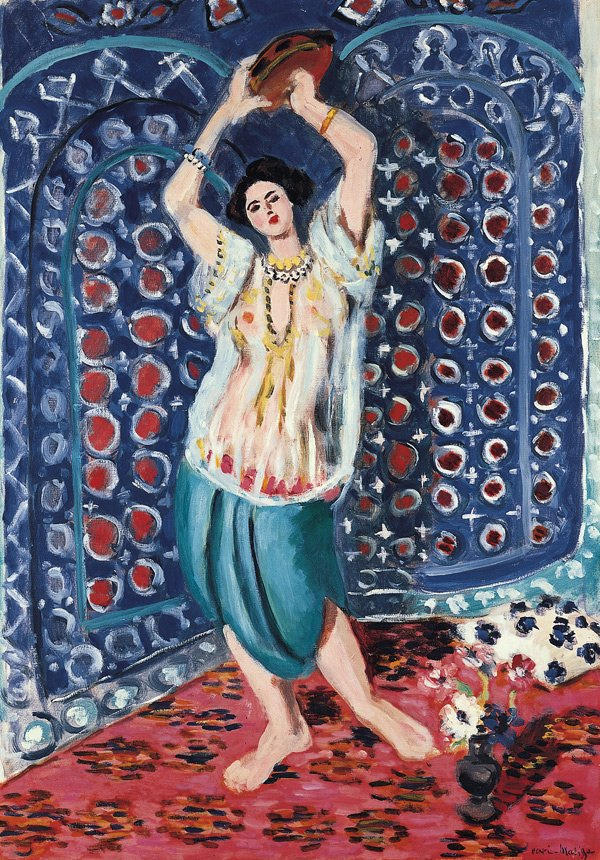
Одалиска с тамбурином (Гармония в синем)
Анри Матисс, 1926
Каменский добавил в знаменитую историю новые, выдуманные им детали: что пленница была захвачена «в заморском Персидском краю», в Реште, во дворце султана Абдула, что звали ее Мейран, что она, хоть и тосковала по «золотой, звездной Персии», тоже полюбила атамана, что у Степана Разина в это же самое время была еще одна любовь и жена – дончанка Алена, «лебедь белая, а не черная», что сподвижники атамана постоянно ругали его за постыдное увлечение: «А ну ее к рожну – / Персидскую княжну», и что тогда же погибла и вторая «донская жена» Разина Аленушка. И хотя атаман в итоге этой драмы «воем выл псиновым» и страшно переживал, он сделал это ради продолжения своей борьбы:
На струг вышел Степан
Из шатровой завесы,
А в руках — гибкий стан
Извивался принцессы.
Взмах!
И брызги алмазные
Ослепили глаза.
Песни бражные, праздные
Разлила бирюза.
Прощай!
А вторым поэтом, побывавшим в Персии и тоже обратившимся к судьбе Разина, был никто иной как Велимир Хлебников, о котором мы уже подробно писали. В 1921-1922 гг. в поэме «Уструг Разина» он продолжил ту же тему, уточнив, что жертвы княжны требовала будто бы сама «голубая Волга-мать», которая «не видит пищи» и желает накормить «страну плотвы»:
Волге долго не молчится.
Ей ворчится, как волчице.
Волны Волги — точно волки,
Ветер бешеной погоды.
Вьется шелковый лоскут.
И у Волги у голодной
Слюни голода текут.
Степан уступает зову Волги, и возлюбленная атамана «в буревой волне маячит». В отличие от Каменского и Хлебникова Марина Цветаева в своем взгляде на Стеньку упор сделала именно на его несчастную любовь: «Вот и вся тебе персияночка, / Полоняночка», «И снится Разину — дно — / Цветами, что плат ковровый. / И снится лицо одно — Забытое, чернобровое», «Сдавило дыханье — аж / Стеклянный, в груди, осколок»:
И звенят-звенят, звенят-звенят запястья:
— Затонуло ты, Степаново счастье!
Нам же важно еще раз подчеркнуть, что «персидская тема» находила в русской поэзии и такое интересное и неожиданное ответвление, как любовь Степана Разина и «персидской княжны».
А вот Изабелла Аркадьевна Гриневская (1864-1944), поэтесса, драматург и прозаик с еврейскими корнями, с удивительной судьбой и разносторонними талантами, особую популярность получила после издания и постановки в театре в Санкт-Петербурге в 1904 г. пьесы «Баб. Драматическая поэма из истории Персии. В 5 действиях и 6 картинах» и издания пьесы «Беха-Улла» (1912), посвященных Бабу и Бахаулле, основателям новейших на то время религиозных учений – бабизма и бахаизма. О первой пьесе одобрительно отозвался Л.Н. Толстой, также изучавший учения этих мыслителей, а сама автор пьес впоследствии стала одной из первых последовательниц учения бахаи в России, ее захватывают идеи духовного, ненасильственного преобразования общества, свойственные новым социальным учениям, она знакомится в 1910 г. в Александрии с основателем веры бахаи Абдул-Бахой, становится его доверенным лицом и много путешествует по странам Востока, ведя свои обширные дневники «Путешествия в край солнца» (1914), которые так и не были полностью опубликованы. Ее пьесы были переведены на французский и немецкий языки, а Абдул-Баха обещал даже посодействовать их постановкам в Тегеране.
О жизни Гриневской после революции мало что известно, она пережила блокаду Ленинграда, умерев после ее снятия в 1944 г. Нам же важно констатировать, что некоторые поэты приходили к персидской теме и через свои религиозные поиски. Послушайте, как сплетались в строках Гриневской и типичные восточные мотивы, и религиозные вопросы:

Прекраснее ночи Бог создал меня!
Зачем, — я спрошу у Творца моего,
Чернеют, как тучи, чело осеня,
Волос моих пряди… так создал меня
Господь для чего?
Прекрасной, как месяц, Бог создал меня!
Зачем, — я спрошу у Творца моего,
Очей моих сумрак теплее огня?
Уста — как гранаты. Так создал меня
Господь для чего?
А вот такими словами поэтесса, отстаивая права исламских женщин (жен, подруг, матерей), в том числе их право на счастье, рассуждала в поэме «Баб» о заповедях ислама, приближая его к европейским традициям:
Читайте Аль-Коран: Один есть Бог на небе,
В прозрачной синеве одна блестит луна…
Молитва есть одна об ежедневном хлебе.
Рукою всеблагой до гроба нам дана
Для жизни праведной единая жена.
Читайте Аль-Коран: Равно всех жен любите,
Но если усмирить вы сердце, как волну,
Не можете, тогда до гроба изберите
Жену одну, одну...
А теперь несколько слов о поэте, увидевшем все-таки Персию воочию. Лев Маркович Василевский (1876-1936), которого на литературные занятия благословил ни кто иной, как И.А. Бунин, окончив медицинский факультет Харьковского университета, сначала работал земским, а потом судовым врачом. С 1904 г. жил в Петербурге, занимаясь издательской деятельностью. Выпущенный им в 1907 г. сборник революционных стихов «В грозу» был изъят полицией. В 1912—1914 гг. Василевский сопровождал И. И. Мечникова в поездках по охваченным чумой районам Астраханской губернии. Из Астрахани поэт попадает в 1912 г. в Персию, а вернувшись на Родину, издает сборник своих избранных стихов, в который включает цикл «Персидские мотивы» с тем же самым названием, что и у Сергея Есенина через 10 с лишним лет. Знал ли последний этот сборник? Предположим, что знал, ведь Лев Василевский был хорошо знаком с также побывавшим в Персии Сергем Городецким, одобрительно отзывавшимся о его стихах. А Городецкий в свою очередь был близок с Есениным. В то время цех поэтов был все-таки довольно узок, и новинки поэтических книг быстро становились известны в кругу литераторов.
Во время Гражданской войны Василевский был тяжело контужен, почти лишился слуха и отошел от литературного мира, став, как врач, пропагандистом санитарно-гигиенических знаний. Конечно, персидский эпизод в судьбе поэта был мимолетен, но он еще раз доказывает как широко «эпидемия» интереса к Ирану была распространена в поэтических кругах России начала ХХ века. Приведем в качестве примера этой «эпидемии» стихотворение Василевского «Дервиш» (1912), в котором слышится перекличка с пушкинскими строками о восточных дервишах и опытом «русского дервиша» Велимира Хлебникова:
К. Е. Маковский
Шумливый торг. Бегут туда, оттуда,
И смех и брань, и песня бубенца.
Скрип ишака и мерный шаг верблюда,
И визг пилы, и молот кузнеца.
Вбежал дервиш, безумный, полуголый.
Волна кудрей, рассыпанных до плеч,
И взгляд очей, горячий и тяжелый,
Сверкает страстью, как и речь.
Полусвятой и вместе дерзкий нищий,
Поэт и раб, — он к людям прибежал,
Чтоб напоить сердца духовной пищей
И выпросить униженно реал.
Персидская тема могла неожиданно возникать у любого поэта Серебряного века. Так, стоявший особняком в поэтическом мире той эпохи Владислав Фелицианович Ходасевич (1886-1939), стоявший ближе всего к Валерию Брюсову, увлекавшийся историей от библейских времен до средневековых рыцарских баталий, не случайно в своем стихотворении «Обезьяна» (1918-1919), описывая всего лишь замеченную им картину, как «бродячий серб» угощал из блюдца водой «обезьяну в красной юбке», а она пила стоя на четвереньках, вдруг вспомнил эпизод из древней истории Персии. А именно бегство царя Дария от войска Александра Македонского:
Так, должно быть,
Стоял когда-то Дарий, припадая
К дорожной луже, в день, когда бежал он
Пред мощною фалангой Александра.
Вот вам пример того, как из какой-либо мелочи, из какого-либо сора рождается поэзия. Ходасевич, отталкиваясь от обезьяны, уносится далеко-далеко в глубь веков и в мировые сферы:
Глубокой древности сладчайшие преданья
Тот нищий зверь мне в сердце оживил,
И в этот миг мне жизнь явилась полной,
И мнилось — хор светил и волн морских,
Ветров и сфер мне музыкой органной
Ворвался в уши, загремел, как прежде,
В иные, незапамятные дни.
От исторического факта при написании «Стиха Гафиза на ризе» (1928) оттолкнулся и интересный поэт Михаил Александрович Зенкевич (1886-1973), примыкавший к акмеистам, любивший восточные мотивы и переводивший мировую классику, в том числе У. Шекспира и Р.Л. Стивенсона. Он обыграл историю со стихом Гафиза, вышитом на подоле ризы в Троице-Сергиевой лавре, переданной туда Василием Нагим в 1622 г.: «Когда одежды совлекает красавица с мускусной родинкой, это луна, подобной которой нет по красоте». Поэт увидел через туман веков «ширазскую капризницу», которой были посвящены строки Гафиза, и ее описание получилось у него «по-персидски» сочно:
Ширазская эта красавица
С мускусной родинкой — мне
Не раз еще ночью предъявится
Обнаженной в морозной луне!
Красавица с родинкой мускусной,
Живет лишь Гафизов стих,
И вкус его, терпкий и уксусный,
Запекся в губах моих!
Поцелуями выискать родинку
Мускусную хоть во сне —
С чернью лиловой смородинку
На фаянсовой белизне!

А «король поэтов» Игорь Северянин (1887-1941) пошел более традиционным путем: он, как и другие «гафизиты» той эпохи (автор сам упоминает Михаила Кузмина) писал «газэллы», подражая персидским лирикам. И это у него получалось складно и красиво:
Ты любишь ли звенья персидских газэлл — изыска Саади?
Ответить созвучно ему ты хотел, изыску Саади?
Ты знаешь, как внутренне рифмы звучат в персидской газэлле?
В нечетных стихах, ты заметил, звук бел — в изыске Саади?
Тебя не пугал однотонный размер в газэлловом стиле?
Поймать, уловить музыкальность сумел в изыске Саади?
Так что же так мало поэты у нас газэлл написали?
Ведь только Кузмин был восторженно-смел с изыском Саади…
Звените, газэллы — газельи глаза! — и пойте, как пели
На родине вашей, где быть вам велел изыском — Саади!
Среди поэтов Серебряного века Николай Яковлевич Агнивцев (1888-1932) выделялся нарочитой шаловливостью, иронией и виртуозностью своего творческого почерка. И на моду к «персидским стихам» он откликнулся, по сути, стихами-пародиями, иронизирующими над восточным поветрием. Послушаем, как игриво поэт описывал простого ишака:

1612. Эрмитаж, Санкт-Петербург.
По горам за шагом шаг
Неизвестный шел ишак.
Шел он вверх, шел он вниз,
Через весь прошел Тавриз.
И вперед, как идиот,
Все идет он да идет!
И куда же он идет?
И зачем же он идет?
— А тебе какое дело?
А это пародия на любовные восточные страсти:
У Зюлейки-ханум
Губы как рахат-лукум,
Щеки как персики из Азербинада,
Глаза как сливы из шахского сада.
Азербайджанской дороги длинней
Зюлейкины черные косы.
А под рубашкой у ней
Спрятаны два абрикоса.
И вся она — в-ва!
Как халва,
Честное слово!
Только любит она не меня, а другого!
Написано весело, задорно и даже не обидно для любителей персидской поэзии. Как и это стихотворение о красавице-Зулейхе и ее возлюбленном:
Много есть персианок на свете,
Но собою их всех заслоня,
Как гора Арарат на рассвете,
Лучше всех их Зулейха моя!
Почему? Потому!
Много персов есть всяких на свете,
Но собою их всех заслоня,
Как гора Арарат на рассвете,
Больше всех ей понравился я.
Почему? Потому!
Ирония у Николая Агнивцева получается добрая и пробуждающая интерес к экзотике персидского мира:

ок. 1590 г. Британский музей, Лондон.
Хорошо жить на Востоке,
Называться бен Гассан
И сидеть на солнцепеке,
Щуря глаз на Тегеран!
К черту всякие вопросы.
Тишь да гладь и благодать.
Право, с собственного носа
Даже муху лень согнать.
Чтоб любви не прекословить,
Стоит только с крыши слезть.
Кроме персиков, еще ведь
Персианки тоже есть.
Ай, Лелива! Глаз как слива,
Шаль как пестрый попугай.
Ай, Лелива! Ай, Лелива!
Как целуется, ай-ай!
Просто даже непонятно,
Персия то иль персидский рай.
Ай, как хорошо, ай, как приятно!
Ай-ай-аи! Ай-ай-ай!
Как видим, несмотря на иронию, Агнивцев не раз называет Персию раем: и он тоже попал в ее коварный плен!
Постепенно на закате Серебряного века, когда его оттесняла грохочущая и бегущая вперед советская эпоха, рождавшая своеобразный Красный век, даже персидская тематика в стихах русских поэтов приобретала все более революционное звучание, как это уже проявлялось в творческих устремлениях Велимирва Хлеьникова или поэтов, посещавших Гилянкую республику. Поэт-имажинист, друг Сергея Есенина, прошедший Гражданскую войну в красной кавалерии Александр Борисович Кусиков (Кусикян) (1896-1972) отличался постоянными попытками соединить в своих стихах христианские и исламские мотивы в силу того, что он выходец из Армавира и имеет черкесские корни (хотя на самом деле был армянином), оставил после себя сборники с характерными названиями: «Зеркало аллаха», «Аль-Баррак», «Коевангелиеран» (соединение евангелия и корана), «Алькадр» и т.д. Иран, конечно, присутствовал в мечтах и поэтических воплощениях поэта, но именно с «революционным посылом» на будущее (1919):
Тоску застывшую бескрылых гор — я знаю,
Их взгляд вершин, заломленный в простор — я знаю.
Лишил их Индра взмаха сизых крыл — я знаю,
Не раз их вздох молитвой скорбной выл — я знаю…
Кто победит — Иран или Туран — я знаю,
Пройдет все страны Красный Ураган — я знаю.
Кусикова тоже ждала долгая эмиграция в Европе, но там, как мы уже видели, «персидские мотивы» не были так явны и популярны, как у поэтов, оставшихся в России и имевших так или иначе контакт с Кавказом или Средней Азией. Хотя «персидские нотки» можно заметить и в поэтических опытах эмигранта с огромным стажем Владимира Владимировича Набокова (1899-1977), использовавшего, к примеру, притчу Саади в стихотворении о встрече Иисусом Христом и апостолами в пустыне обезображенного трупа пса, вызывавшего омерзение («Христос же молвил просто: / «Губы у него как жемчуга…»). Любопытно, что, когда в 1966 г. Набокова спросили в одном интервью о его планах где-то осесть постоянно, то он – любитель охотится на бабочек – ответил: «…Сперва я намерен половить бабочек в Перу или в Иране — и только потом окуклиться».

Об Иране вспоминал даже донской казак, прошедший сквозь горнило Первой мировой и Гражданской войн, вынужденной эмиграции в течение более 50 лет и даже участия во французском Иностранном легионе в Северной Африке и на Ближнем Востоке, Николай Николаевич Туроверов (1899-1971):
Только розы из Шираза и фантазия.
Воспоминаньями могилы поросли.
Персики и Персия, и Азия.
Первопричастница земли.
Азия, поэзия! Тысячелетия
Пред тобой стоят. И постоят еще.
Ты прав, Хайям, в своем великолепии.
Ты пьян, Хайям, и это — хорошо.
Быть «пьяным – хорошо», востояная поэзия вечна: «Тысячелетия пред тобой еще постоят», - такова соль этого краткого, но мудрого стиха…
Пример того, как территориальная близость к магниту Ирана, усиливает у поэтов тягу к нему демонстирует поэт, заядлый путешественник и военный корреспондент Борис Матвеевич Лапин (1905-1941), который особенно прикипел к Таджикистану и Памиру (он путешествовал также по Монголии). Иранские сюжеты поэтому ему были тоже близки, о чем может свидетельствовать изящный стих поэта «Разговор с ангелом», написанный в духе Саади и Хайяма, о том, как перед автором из тьмы возник Джебраил, говоривший о «колодце умов», «о Божестве без конца и без дна», но автора интересовал только один вопрос:
Ты мне вещаешь о славе вещей.
Но ведь со мною нет милой моей.
Лучше скажи — не видал ли в звездах
Отблеск ее золотого чела?
— Тысячу тысяч небесных светил
Я созерцал,— говорит Джебраил, —
Но не видал господыни твоей.
Может быть, смертный, она умерла.
Если она умерла — ее нет.
Если она не пришла — ее нет,
Если забыла меня — для чего
Роза цвела и летела пчела?
В 1925 г. Лапин в «Песне дервиша» традиционно обратился к популярной среди поэтов теме, показав, что его все еще влечет к себе Иран:

Медресе Шах-Султан-Хоссейн, Исфахан.
Эжен Фланден, 1839 – 1841 гг.
Чай-ханэ полны народом,
В путь готов мой караван.
Завтра я перед восходом
Уезжаю в Исфаган.
Поплывут поля в тумане
На веселом утре дня,
Никого во всем Иране
Нет счастливее меня.
«Я искал у струн ответа —
В песнь любви они слились», —
Говорил в былые лета
Знаменитый шейх Гафиз.
Однако дервишу так и не удается долгие годы отправиться в Исфахан, но при этом он остается, несмотря ни на что, с помощью Аллаха счастливым человеком:
Минул век. Ушел к востоку
Караван, взбивая пыль.
Я, как встарь, молюсь Пророку
У колодца Зельзебиль.
И забыл об Исфагане,
Сон свой старческий храня,
Никого во всем Иране
Нет счастливее меня.
Поэту Борису Лапину, как и такому же страннику-поэту Александру Чачикову, суждено было погибнуть в 1941 г. на фронте под Киевом.
«Персидские ноты» Серебряного века и советской поэзии. Часть II
Михаил Кузмин
Поэт Михаил Алексеевич Кузмин (Кузьмин) (1872–1936), который обладал даром «уходить» то в Египет III века, то в средневековую Европу, касался и «мусульманских веяний». В 1909 г. поэт опубликовал в «Весах» свое, посвященное Валерию Брюсову, историческое повествование «Подвиги Великого Александра», в котором не мог не коснуться многих страниц истории Персии – главного соперника легендарного Александра Македонского. Через год он выпустил «Путешествие сера Джона Фирфакса по Турции и другим замечательным странам», где «восточная струна» зазвучала в его прозе во всю силу, а в 1911 г. поэт писал в своих «Осенних озерах»:

Михаил Алексеевич Кузмин (Кузьмин) (1872–1936)
Блаженство ль, долгое ль изгнание
Иль смерть вдвоем нам суждена,
Искоренить нельзя сознания,
Что эту чашу пью до дна.
Что призрак зол, глухая Персия
И допотопный Арарат?
Раз целовал глаза и перси я –
В последний час я детски рад.
Однако главный свой «поэтический поклон» Персии поэт сделал венком из 30 «газэл», написанных им в мае–июне 1908 г. Газэла (газель) – это особый вид лирического стихотворения, широко распространившийся из персидских земель по Востоку и Азии и состоящий из бейтов (двустиший), рифмуемых особым образом. В начале ХХ века форма газели получила особое распространение в Германии, откуда она дошла, в том числе и через знакомого поэта И. Гюнтера, до Кузмина, который был активным участником кружка «гафизитов», собиравшегося в Башне Вячеслава Иванова с 1906 г. Участники этого кружка получали специальные имена: Кузьмин стал Антиноем, Иванов – Гиперионом или Эль-Руми, а К.А. Сомов – Аладином. Венок «газэл» стал, по сути, изящным букетом стихов, который поэт преподнес к гробницам великих персидских лириков, в том числе Гафиза (Хафиза, ок. 1325–1389) – автора более 400 газелей.
Вот так Кузмин описал «коллективное поклонение» «гафизитов» своему кумиру:
Нежной гирляндою надпись гласит у карниза:
«Здесь кабачок мудреца и поэта Гафиза».
Мы стояли,
Молча ждали
Пред плющом обвитой дверью.
Мы ведь знали:
Двери звали
К тайномудрому безделью.
Тем бездельем
Мы с весельем
Шум толпы с себя свергаем.
Очень важно понять, что пристрастие к «персидским мотивам» было действительно массовым в те «серебряные годы». Кузмин очень хорошо подметил это в своем стихотворении «Друзьям Гафиза» (1906)
Нас семеро, нас пятеро, нас четверо, нас трое,
Пока ты не один, Гафиз еще живет.
И если есть любовь, в одной улыбке двое.
Другой уж у дверей, другой уже идет.
Нарциссами, левкоями покой наш был украшен,
Алела яркость губ, вился сладелый дым,
Но и лишен цветов, для мудрых он не страшен,
Богат и осиян роскошеством былым.
Пусть демон не мутит, печалью хитрость строя,
Сомненьем, что всему настанет свой черед,
Пусть семеро, пусть пятеро, пусть четверо, пусть трое,
Пока ты не один, Гафиз еще живет.
В итоге «тайномудрое безделье» в стиле Гафиза подарило творческий взлет не только Кузмину, но и многим другим поэтам Серебряного века. В цикле «газэл» Кузмина, который поэт дополнил также 28 стихами цикла «Всадник», посвященного тому самому Гюнтеру, читатель встретится и с муэдзинами, и дервишами, и с парусными фелуками, и с вечно юными девами-гуриями, и с характерными для европейского ориентализма Зулейкой, Фатьмой и Гульнарой, и с великим Искандером (или Александром Македонским), и с сюжетами «Тысячи и одной ночи», и с самим Гафизом. Поэт в целом ряде газелей просто охвачен трепетом восточной любви: «Насмерть я сражен разлукой стрел острей…», «Днем томлюсь я, ночью жаркою не сплю…», «Дней любви считаю звенья, повторяя танец мук…», «Что, скажи мне, краше радуг? Твое лицо. // Что мудреней всех загадок? Твое лицо…» Так и кажется, что Есенин, обратившийся позже к той же самой теме, не мог не изучать газели Кузьмина, который как будто бы за 15-20 лет до «рязанского соловья» также оказался в своих фантазиях в вожделенной Персии. Вот образец одной «любовной газели» (1911-1912) Кузмина, которая не могла бы не прельстить вкуса Есенина:
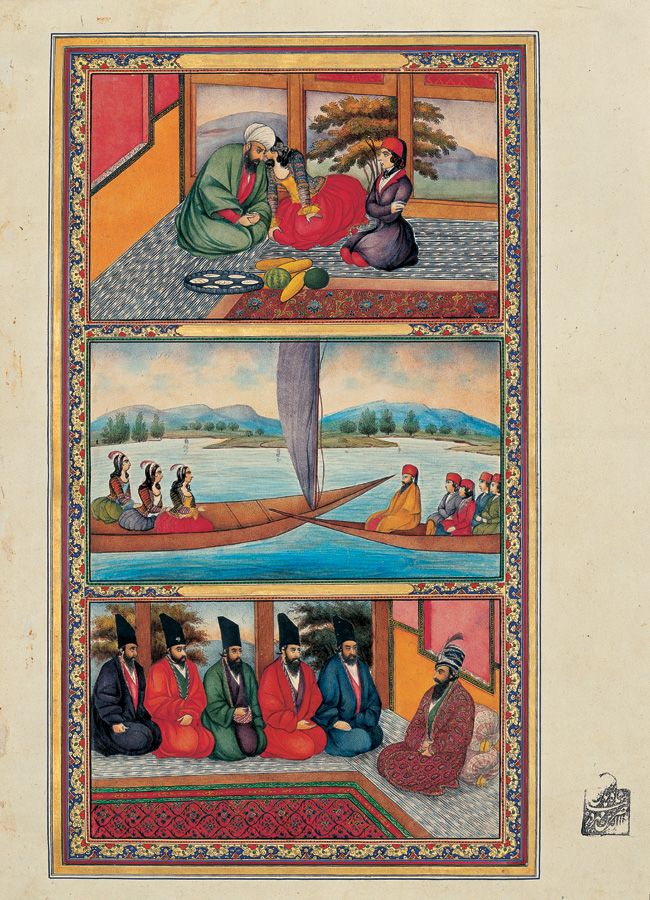
Иллюстрация к «1001 ночи»
Сани Оль Молька, Иран, 1853
Мне ночью шепчет месяц двурогий всё о тебе.
Мечтаю, идя долгой дорогой, всё о тебе!
Когда на небе вечер растопит золото зорь,
Трепещет сердце странной тревогой всё о тебе.
Когда полсуток глаз мой не видит серых очей,
Готов я плакать, нищий, убогий, всё о тебе!
За пенной чашей, радостным утром думаю я
В лукавой шутке, в думе ли строгой всё о тебе.
В пустыне мертвой, в городе шумном всё говорит
И час-медлитель, миг быстроногий всё о тебе!
А в самой запоминающейся газели, посвященной основным заветам ислама, Кузмин, как и многие другие поэты Серебряного века, показал себя знатоком суфизма, скрывающим под известными словами тайные смыслы:
Кто видел Мекку и Медину – блажен!
Без страха встретивший кончину – блажен!
Кто знает тайну скрытых кладов, волшебств,
Кто счастьем равен Аладину – блажен!
И ты, презревший прелесть злата, почет
И взявший нищего корзину – блажен!
И тот, кому легка молитва, сладка,
Как в час вечерний муэдзину – блажен!
А я, смотря в очей озера, в сад нег
И алых уст беря малину – блажен!
И даже в смутном 1917 г. Кузмин успевал вновь думать и мечтать о Персии. Его стихотворение «Персидский вечер» наполнено такой тягой в «персидский мир», что можно только пожалеть автора, который так никогда и не увидел «хорасанских просторов»:
Смотрю на зимние горы я:
Как простые столы, они просты.
Разостлались ало-золотоперые
По небу заревые хвосты.
Взлетыш стада фазаньего,
Хорасанских, шахских охот!
Бог дает — примем же дань Его,
Как принимаем и день забот.
Не плачь о тленном величии,
Ширь глаза на шелковый блеск.
Все трещотки и трубы птичьи
Перецокает соловьиный треск!
Надежда Тэффи
Не обошла вниманием «персидские мотивы» и Надежда Александровна Лохвицкая, писавшая под псевдонимом Надежда Тэффи (1872-1952). Она была младшей сестрой упоминавшейся нами Мирры Лохвицкой и дебютировала в литературе почти в тридцатилетнем возрасте. Ее называли «королевой русского юмора», звездой журнала «Сатирикон», она была любимым автором Николая II, пользовалась заслуженной популярностью, как поэтесса, прозаик и публицист не только в дореволюционной России, но и впоследствии в эмиграции, где она выпустила больше десятка прозаических книг, в том числе «Авантюрный роман», и только два сборника стихотворений. В ее творчестве всегда звучали восточные и библейские сюжеты, касавшиеся и Ирана, и Турции, и арабских стран. Стихи подобного рода она собрала в небольшом сборнике «Шамрам. Песни Востока», вышедшем в Берлине в 1923 г. Неизвестно, успел ли познакомиться с ней Сергей Есенин, но очевидна перекличка образов и тем этой книги с его «Персидскими мотивами». Вспомним хотя бы звонкие имена восточных девушек, воспетых Есениным – Шаганэ, Лала, Шага, Гелия - и сравним их с именами из сборника Тэффи: Джанум, Джелиль, Айшэ, Шамрам… Вот незатейливое стихотворение Тэффи «Полдень» о Шахине, дремлющей у бассейна, создающее «персидское» настроение:

Рдеют розы. Небо сине.
Сердцу шахову — Шахине
Не светло и не смешно:
Там, у той, на левой грудке —
Любит шах такие шутки —
Поцелуйное пятно.
Шевельнулась у бассейна
Шаха смуглого Гуссейна
Нелюбимая жена.
Сквозь сурьмленные ресницы
Взглядом кормленой тигрицы
Усмехается она…
А это – почти «есенинское» прочтение любви по-персидски:
Мои глаза —
Фирюзэ-бирюза,
Цветок счастья...
Взгляни! Пойми!
Хочешь? — Сними
С ног запястья...
Кто знает толк,
Тот желтый шёлк
Свивает с синим...
Ай и мы вдвоем,
Хочешь? — совьём
И скинем...
В стихотворении с громним названием «Персия» Тэффи в свойственной ей манере» легкого намека», а не серьезного погружения в тему описывает всего лишь историю того, как «в апельсиновом саду» «зеленый кот» съел «голубого какаду», и это внесло разлад в отношения двух влюбленных: «Айшэ! Аи, Айшэ! / Приходи ко мне!..». А в ответ: «Гассан! Ай, Гассан! / Я к тебе не приду!» Здесь мы, как в лаковой «персидской миниатюре», видим образы чего-то далекого, неуловимого, того, что часто нравится поэтам… Как жаль, что сегодня в современной поэзии почти пропадает такое мировосприятие и восторженность, любовная струна звучит в ней плоско и не сочно, не так как у Тэффи в стихотворении «Одна навсегда»:

"Бустан" Саади. Бухара. 1575-6гг.
Санкт-Петербург, РНБ.
Я нашел на земле вишню красную —
Твои губы сладкие,
Возлюбленная!
Ты несешь мне весну из Шираза!
Мой черный перец!
Мой сладкий миндаль!
Ах, — и ты одна навсегда.
И не так как в заглавном стихотворении сборника «Шамрам», опять напоминающем нам «персидские творения» Есенина:
Шамрам! Скажи мне правду –
Ты любишь меня, Шамрам?
Глаза твои смотрят так нежно.
Я не верю твоим глазам.
Ах, лучше б тебе ослепнуть!
Ты так же смотришь на всех!
Что значат эти вздохи
И этот лукавый смех?
Не немки ль тебя научили
Так нежно и дерзко смотреть,
Так грубо протягивать руки?
Ответь мне, Шамрам, ответь!
Ты много ль пиастров хочешь
За свой поцелуй, Шамрам?
Другие тебе заплатят,
А я только жизнь отдам!
Получается, что современным русским поэтам нужно чаще обращать внимание на Восток, Иран и другие экзотические страны и вылавливать оттуда жемчужины поэтического вдохновения и не умирающие образы.
Максимилиан Волошин
Максимилиан Александрович Волошин (1877–1932) – один из столпов Серебряного века, поселившись в 1907 г. в Коктебеле, где он стал постоянно, почти безвыездно жить после революции, пропустил через себя все «ветра истории», бушевавшие когда-то над Крымом – местом, где через крымские степи к Босфору Киммерийскому, а оттуда через Кавказ и Персию пролегали старинные караванные пути, связывавшие различные цивилизации. Воспевая Крым, поэт не мог не вспоминать о Персии, которая то и дело всплывала в его стихах и дневниках. Так, в своем программном стихотворении «Россия», описывая исторические пути-перепутья Отечества, он, в том числе, вспомнил и персидские следы:

Путь янтаря – от Балтики на Греки,
Путь бирюзы – из Персии на Дон.
Лесные Вотские и Пермские дороги,
Где шли гужом сибирские меха,
И золотые блюда Сассанидов,
И жемчуга из Индии в Москву.
А в стихотворении «Дикое поле» поэт не мог не упомянуть о стремлении «разинской голытьбы» в ту же Персию:
Голытьбу с тесноты да с неволи
Потянуло на Дикое поле
Под высокий степной небосклон:
С топором, да с косой, да с оралом
Уходили на север – к Уралам,
Убегали на Волгу, за Дон.
Их разлет был широк и несвязен:
Жгли, рубили, взымали ясак.
Правил парус на Персию Разин,
И Сибирь покорял Ермак.
В 1908 г. в дневнике «История моей души» поэт прямо высказал свое убеждение «о том, что я буду в Персии». Бредивший Востоком Волошин в том же году записал в дневнике, как ему некий доктор арабских наук на основе кабаллистики предсказал поездку в Персию, которая, к сожалению, так и не состоялась. Иначе мы получили бы в наследие яркую перекличку поэта с творениями и Гумилева, и Хлебникова, и Есенина, и Бальмонта. С последним поэтом у Волошина вообще было много общего, его, так же как и Бальмонта, многие считали «огнепоклонником» или «солнцепоклонником». В поэзии Волошина солнце – это божество, питающее живительными соками весь тварный мир, несущее жизнь и воскресение:
Солнце! Прикажи
Виться лозам винограда,
Завязь почек развяжи
Властью пристального взгляда!
Солнце для поэта – Всезрящий огонь, Око мира, и как тут не увидеть аналогию с мифологемой: «Солнце – божественное око», свойственной многим культурам. Так, исследователь Х.Э. Керлот приводил следующие аналогии: «В Индии оно под именем Сурья является оком Варуны; в Персии оно является оком Ахурамазды; в Греции оно известно как Гелиос – око Зевса (или Урана); в Египте оно является оком Ра, а в исламе – Аллаха».
И хотя Максимилиан Волошин так и не увидел «персидского солнца», оно не могло не вливаться своими жгучими красками в его пестрое полотно духовно-насыщенной жизни…
Владимир Тардов
Увидеть Иран - и не один раз - посчастливилось в начале ХХ века Владимиру Геннадиевичу Тардову (1879-1938), поэту, критику, переводчику и дипломату. Сначала он работал в банке, занимался журналистикой. Но все изменила одна поездка. В 1909 г. Тардов путешествовал по Персии в качестве специального корреспондента газеты «Русское слово». В своих статьях об этой стране он занял тогда критическую позицию по отношению к действиям русской дипломатии в Персии и был вынужден даже часть своих материалов публиковать в английской газете «Manchester Gardian». Вернувшись в Москву, Тардов начал изучать фарси с помощью перса-студента Московского университета, потом он продолжал обучение на языковых курсах и делал переводы персидских лириков. Поэт любил переводить не только Хафиза, но и (что было особенно любопытным) забытого персидского лирика Баба Фигани (у. 1516 или 1519), которого называли «Малым Хафизом», а также рубаи Омара Хайяма. Уже из первой поездки в Персию он привез стихи о «родине Хафиза», вошедшие во второй сборник его стихотворений «Странник» (1912).
Приняв Октябрьскую революцию, Тардов работал в Наркомвоене Украины, а в 1919 г. поступил в Наркомат иностранных дел, где был заведующим отдела печати. В 1920 г., когда в Иране уже кипели революционные события, Тардов был назначен представителем НКИД в Гилянской республике, он был заведующим информбюро Персии и вошел в историю тем, что участвовал в составлении договора между РСФСР и Персией от 26 февраля 1921 г.
В 1921-1928 гг. Тардов работал сотрудником полномочного представительства России в Персии и был генеральным консулом в Исфахане – городе-жемчужине Ирана. При этом он продолжал настойчиво изучать культуру и поэзию Персии. Вернувшись в СССР, дипломат подарил государству (впоследствии все это было передано иранскому отделу Государственного музея искусства народов Востока в Москве) коллекцию собранных им предметов культуры Ирана. Впоследствии Тардов преподавал в Московском институте востоковедения, написал на персидские темы большое количество статей и три книги «Искусственное орошение в Иране и других странах Востока в связи с общественными отно-шениями», «Керм» (книга о «доарийском» населении Персии) и «Маздак» (книга о феодализме в Иране при Сасанидах).
Однако конец жизни Тардова был трагическим. Долгая дипломатическая служба послужила в эпоху «большого террора» поводом для необоснованных репрессий против него НКВД. 5 февраля 1938 г. он был арестован по обвинению в шпионаже, а 8 апреля того же года расстрелян (реабилитирован в 1994 г.). И как созвучны этой трагедии строки персидского поэта Баба Фегани, переведенные Тардовым и затрагивающие тему смерти:
Вновь весна! Вином тем грешным вновь душа обновлена,
И к прекрасным, к розам вешним, страсть в душе обновлена.
Им давно закрыл я сердце, но лишь вновь раскрылись розы -
Настежь сердце! - жажда счастья вновь в душе обновлена!
Ах, из праха жертв надежды, из могил восходят розы;
И тоска времен, как прежде, вновь в душе обновлена.
Вот и роза - дань могилы, облетает роскошь розы!
И о всех ушедших, милых, скорбь в душе обновлена!..
Обратимся теперь вкратце к стихам Тардова, чтобы почувствовать, что он ранее многих певцов Серебряного века окунулся в «персидскую лазурь» и как бы задал тон будущим поэтам, бредившим Персией. Вот так, опередив Велимира Хлебникова на 10 лет, он писал о предназначении дервиша:

Могольская живопись, около 1650
Я не ловец, я — дервиш,
Звери меня не боятся.
Часто — над берегом спишь, —
Лани приходят купаться.
Посох тяжелый в руке,
Чаша да кустики мяты;
Встану, умоюсь в реке,
И не увидишь меня ты!
В синюю даль погляжу
Да и пойду по дороге,
Так и хожу, и хожу —
Носят безумного ноги.
Из Тегерана в Мешед
Иль из Шираза к Дамаску,
Мне все равно, где ни петь,
Где ни рассказывать сказку.
Тардов как будто бы предвосхищал этими строками будущие скитания Велимира Хлебникова, завершая свой стих встречей дервиша с караваном и обращением его к караванному чарводару (водителю):
Песню ему затяну, —
Даст мне и сыру и хлеба,
А в чай-ханэ я засну
По милосердию Неба.
В другом стихотворении «Ночной караван» (1912) поэт описал свои впечатления от горной бурной реки Северного Ирана Шахруд, предвосхищая тем самым многие стихи русских поэтов, восхищавшихся природными красотами Ирана:

Стою одиноко над черной стремниной,
Светлеют под месяцем горные спины,
Шахруд неумолчный шумит;
Да веет в расселинах ветер вершины,
Что вечные горы веками круглит
И чертит на скалах узорные руны.
Чу! Страшные звуки! То трубы иль струны?
То звон колокольный, то говор чугунный, —
Далеко, далеко рокочут, поют.
И смолкли, и снова лишь ветер пустынный,
Да рвется в стремнине Шахруд.
Поэт видит в горных картинах мощной природы Ирана отголоски драматической, многовековой истории Ирана:
И в смене сплетений, качаний, движений
Там тихо из ночи рождаются тени…
То всадники мчатся в безумье сражений?
То белые птицы плывут?
То крылья ли машут или белые руки?
И ближе, всё ближе те стоны и звуки,
Из ночи рождаясь, рокочут, поют…
Но вдруг, как во сне, поэт видит непонятно откуда появившийся караван:
И вижу я чудо над старым Шахрудом.
Качаясь, выходят верблюд за верблюдом,
Идут, разрывая туман.
И ветер, и горы, всё полнится чудом,
Всё лунный, безумный обман…
«И сам я не сон ли над ложем Шахруда?», - вопрошает себя автор в конце стихотворения, так и оставшись «стоять одиноко над горной стремниной», где «шумит неумолчный Шахруд». «И сам я не сон ли?», - этот вопрос и до Тардова, и после него задавали себе многие русские поэты-путешественники, открывавшие иные миры и пространства. А Персия в этом ряду «стран-призраков» всегда занимала особое почетное место…
Евгений Яшнов
Поэт, экономист-статистик и путешественник Евгений Евгеньевич Яшнов (1881-1941), объездивший всю Среднюю Азию и около 20 лет проживший в эмиграции в Китае (его называли «великим русским исследователем Манчьжурии и Китая»), не мог не коснуться «персидского мира». Дело в том, что, устав от политических дрязг (поэт из-за своих революционных увлечений долго находился под полицейским надзором) и журналистской работы, только вернувшись из поездки по Европе, этот «беглец из шумных городов» в 1907 г. выехал в Ташкент, где, став статистиком Сыр-Дарьинской статистической партии Туркестанского переселенческого управления, начал вести «полуфантастическую скитальческую жизнь». Он отринул суету «цивилизованного мира» и спел гимн путешествиям по самым дальним и опасным точкам планеты:
От мятежей стареющей Европы,
От яда книг и от любви твоей
Меня спасли водительницы-тропы
В неведомой республике степей.
Волнуй себя экзотикой распада,
Развратом духа, горечью ума…
Я все простил. Мне ничего не надо.
Лишь – этот путь, безделье, грусть и тьма.

Вот характерные выдержки из стихотворений Яшнова, воспевающих дальние скитания и слияние с природой: «Жребий мой - скитаться по дорогам, / Славить землю и в ночную пору / Греться с пастухами у огня»; «Мне больше, чем все книги эти / Отрады даст степной рассвет!»; «И - Господи! - Как хочешь жадно / Скакать, устать и умереть!»; «Скачи в степи, блуждай по гаваням, / Похохочи с аэроплана, / Одно лишь счастье: вечным плаваньем / Размыкать скуку океана»; «Согнула спину мне котомка / Тоски, бездомного житья…». В 1908 г. началась четырехлетняя полевая статистическая работа Яшнова в Туркестанском крае,когда его постоянные странствия, растягивавшиеся на сотни верст, не прекращались месяцами. При этом Яшнов умудрялся настойчиво изучать восточные языки – казахский, арабский и персидский!
Пожив некоторое время в Самаре и Москве, Яшнов весной 1914 г. вернулся в Ташкент и опять начал кочевую жизнь «полевого статистика»:
Вновь услышая я – селям-алейкум! –
Ва алейкум асселям! – Киргизы, козы,
И тушканчики, и мыши по лазейкам,
И степные трепетные грозы!
И влекут волнитсые барханы
Над песками, над пустынной глиной
В азиатские загадочные страны
И к веселой простоте звериной.
И примерно в мае-начале июня 1914 г. Яшнов оказывается по делам службы в Северной Персии, пополнив собой счет поэтов, побывавших в стране Саади и Хафиза. Это пребывание не могло быть длительным, и поэт увидел только «дикие природные» места Ирана, не посетив крупных городов, ни Тегерана, ни Исфахана, ни Шираза. Но итогом этой поездки стал его стихотворный цикл «На пути в Афганистан», опубликованный в 1947 г. в единственном сборнике его стихотворений, выпущенном в Китае вдовой после смерти мужа.
6-8 июня 1914 г. Яшнов писал сестре из уездного городка Серахс:
«В сущности, я в своей сфере. Скитаюсь. Пишу за походным столом. Сталкиваюсь с тысячами людей – самого разнообразного пошиба, начиная от уездных начальников и кончая захудалым рабочим-афганцем. Успел побывать и за границей - в Персии, в стране развалин, лохмотьев, опиума, пыли, скуки, нищих и торгашей. Наслушался туркменских певцов, монотонного бренчания домбры. Набродился по развалинам городов, насиделся на могилах, в которых спят люди, умершие чуть не тысячу лет назад… Но не думай, что я только наслаждаюсь своим цыганством У меня куча сложной работы, и к обеду я глупею почти до кретинизма. Вдобавок здесь стоят сногсшибательные жары: 43 градуса в тени!
И все же здесь лучше русской городской жизни. Слышишь, как в душе дуют беззаботные рассветные ветры. Степные раздумья, ржанье коней, ребра развалин, шмыганье змей, убегающие чрез пустыни тропинки, не написанные, но уже звучащие стихи, переклик фазанов, ослов, веков, племен, пространств, пожарища закатов, вечное движение путеводящих созвездий и ощущение Бога!»
Разве можно сказать лучше о романтике дальних путешествий! И заметье, как поэтический пульс сильно бьется в прозаических текстах автора, который прекрасно понимал значимость и место слов, поэзии, литературы в жизни. Вот его интересные размышления об этом в письме к Н.С. Ашукину: «Это лето у меня удивительно богато впечатлениями. Вы говорите: литература? Да пропади она пропадом! Разве можно сравнить живую многокрасочную жизнь с мертвой сердцевиной книг? Я за лето написал пяток плохих стихов, но зато проехал сотни верст в поездах, в повозках, экипажах, пароходах, верхом, видел тысячи людей, зверей, дерев, трав, рек, гор, селений, городов, развалин…»
Конечно, в этих словах Яшнов немного лукавил: он не прекращал тогда и ценил потом свои поэтические опыты, однако его слова о превосходстве «многокрасочной жизни» над литературой достойны внимания и осмысления. Любопытна и та характеристика, которую дал поэт Персии, увиденной им только с одной стороны, бегло и отрывочно. В то время северные районы Персии действительно были не обустроены так, как сегодня, и могли производить неблагоприятное впечатление.
В 1914 г. на границе Персии с Афганистаном в пограничном городке Серахс, расположенном ныне в Ахалском велаяте Туркмении на правом берегу реки Теджен (Герируд), по которой проходит граница с Ираном (на противоположном берегу находится иранский город Серахс), Яшнов, как «отчаянный скиталец», ощутил вот такие острые чувства:
Вливает шуршащий томительный зной
Иран воспаленной гортанью.
В тени у гробницы внимаю с тоской
Я лошади долгому ржанью.
Кладу ей на сбитую спину седло,
Подпругу на ребра сухие.
Скитание — наше с тобой ремесло,
Отчаянье — наша стихия.

Стихи Яшнова только в 90-е годы прошлого века стали более или менее известными (самая большая их публикация с кратким очерком жизни поэта была опубликована совсем недавно: Олег Переверзев, Сергей Субботин. На голой грани бытия. - Наш современник, 2011, № 12, с. 227-246), и тем более приятно сейчас уловить в них настроения заядлого путешественника, зовущего за собой в персидские дали:
Стремена, звенящие в пустыне,
Саксаула шум и крик сыча,
Ветра зов у самого плеча —
Полюбил всё это я отныне.
Бездорожье, родина моя, ты
Так вольна, пустынна, широка!
Древние багряные шелка
Персия постлала на закаты.
Пример «степного странника» Евгения Яшнова показывает, что в истории русской поэзии были и те, кто менял «шум городов» на бездорожье, странствия навстречу солнцу и ночевки в степи у костра...
Константин Липскеров
В ряду мастеров Серебряного века нужно особо выделить за его творческое пристрастие к Востоку, исламу и Персии поэта, драматурга и художника Константина Абрамовича Липскерова (1889-1954), который, влюбившись еще до революции в Туркестан, перенес эту любовь на весь восточный мир. Любопытно, что в Среднюю Азию поэт поехал осенью 1914 г. вместе с Осипом и Лилей Брик, и это путешествие потрясло его так, что определило его творческий путь на долгие годы. Владислав Ходасевич писал о первых стихах Липскерова: «Приехав в Туркестан, поэт не сделал из него «своей страны», не превратил в «Туркестан Липскерова», а, наоборот, сам постарался сделаться как можно более «туркестанским» поэтом, однако же пишущим сонеты классическим пятистопным ямбом с цезурой на второй стопе».
В отличие от других поэтов Липскеров глубоко погрузился в персидскую лирику, в суфизм и много сил отдал переводам поэтов Востока, особенно с конца 1920-х гг., когда он перестал публиковать свои собственные стихи. Главное, что он перевел такие шедевры персидской поэзии как поэмы Низами Ганджеви «Хосров и Ширин» и «Искандер-намэ», а также газели Хафиза. Между тем уже в первых сборниках стихов поэта «Песок и розы», «Туркестанские стихи», «Золотая ладонь» (1916-1922) восточные мотивы оказались наиболее яркими и запоминающимися. Причем преподносил их читателям поэт изящно и легко:

В. Ходасевич, 1918
Молвил сладостный Саади:
«Юным денег не хранить,
Бесталанный лишь в ограде
Станет злато хоронить».
Говорил еще Саади:
«В жизни вечная ли гладь?
Всё уйдет…» Чего же ради
Мне тебя не целовать?
Побывав в Туркестане, Липскеров переходил постепенно от описания конкретных картин к обобщениям всей Азии. Вот что он написал в Самарканде в 1915 г.:
Азия – желтый песок и колючие желтые травы…
Азия – розовых роз купы над глиной оград…
Азия – кладбище битв, намогилье сыпучее славы…
Азия – желтый песок и колючие желтые травы,
Голубая мечеть, чьи останки, как смерть, величавы,
Погребенный святой и времен погребальный обряд…
А это «песня о Востоке», которой позавидовал бы любой поэт не только Серебряного, но и Золотого века русской поэзии. Ее можно было бы сделать гимном «поэтов-странников», ищущих на Востоке вдохновение:
Зачем опять мне вспомнился Восток!
Зачем пустынный вспомнился песок!
Зачем опять я вспомнил караваны!
Зачем зовут неведомые страны!
Зачем я вспомнил смутный аромат
И росной розы розовый наряд!
Как слитно-многокрасочен Восток!
Как грустен нескончаемый песок!
Как движутся размерно караваны!
Как манят неизведанные страны!
Как опьяняет юный аромат
И росной розы розовый наряд!
В 1922 г. за несколько лет до «Персидских мотивов» Сергея Есенина ту же струну любовной лирики Востока заставлял звучать и Липскеров:

Британский музей, Лондон
Лейла, Лейла, к тебе в пустыне дальней
Взываю я.
Лейла, Лейла, все глуше, все печальней
Взываю я.
Лейла, Лейла, с богатыми дарами
Искал тебя.
Лейла, Лейла, за многими чадрами
Искал тебя.
Лейла, Лейла, Иранская царевна,
Ты где? Ты где?
Лейла, Лейла, взывает ветер гневно.
Ты где? Ты где?
Часто в стихах Липскерова возникал и образ Персии с «садами нетленными», которые «рождаются в Ширазе», с «песенками Саади», с «яростным Кораном»:
Да землю Персии хранят персты Аллаха
От ветра бедствия, покуда в царстве праха
И ветер кружится и держится земля.
Военные годы Липскеров провел в эвакуации в Ташкенте, а в последние два года жизни он полностью ослеп. Но «восточная струна» продолжала звучать в его сердце, так же, как и в 1931 г., когда он, как бы заранее, написал свое поэтическое завещание с «персидскими нотками»:
Я отдохну тысячелетья три,
Затем опять вернусь на эту землю
И твоему - со мной поговори! -
Я голосу, как будущему, внемлю.
А может быть, я буду лишь цветком,
А может быть, я буду легкой птицей.
Не потому ль я розами влеком,
Не потому ль порой мне воздух снится?
А может, зверем лягу у дорог,
Ты ж со стрелой моей захочешь крови.
Но умереть у милых этих ног,
Послушай-ка, мне разве будет внове?
«Персидские ноты» Серебряного века и советской поэзии. Часть III

Руины храма богини Анахиты в Кенгавере, Иран
Эжен Фланден, 1840
Александр Чачиков
В ряд поэтов, побывавших в Иране, следует поставить и мало известного, но любопытного поэта Александра Михайловича Чачикова (Чачикашвили) (1893-1941), который оказался близок к Персии в силу перипетий своей судьбы. Он родился в Гори в семье грузинских дворян, но сам считал своей Родиной именно Иран, как он рассказывал это Константину Паустовскому, работавшему с ним в батумской газете. Чачиков юнгой плавал на пароходе и успел даже совершить кругосветное плавание, что не могло не пробудить в нем страсть к путешествиям. Но грянула Первая мировая война, и поэт в чине поручика командовал кавалерийской ротой на Кавказском фронте, что и позволило ему в итоге побывать в северных провинциях Ирана уже на исходе войны, в 1918 г., хотя точных документальных данных об этом нет.
Однако в стихах, датированных этим годом, сам Чачиков прямо указывал, что он был в Персии, в районе озера Шериф-хане в то время, когда там воевал Отдельный Кавказский кавалерийский корпус под командованием генерала от кавалерии Н.Н. Баратова. Вот эти строки:

Персидский чиновник с шафранным лицом,
Осмотрев эшелон, сказал: — Пали! —
И в небе ударил крепкий гром
В честь молодого вали…
Проснулся — озеро: пряное Шериф-хане.
Будем катера ждать мы невольно.
И от сознанья, что я в чужой стране,
Стало и гордо и больно.
Находясь на севере Ирана, в районе Урмии, Чачиков даже успел потосковать в стихах о далекой Родине:
Тебе, урмийский вилайет,
Мои тоскующие строки.
Тебе, амбал жестокобокий,
Кидаю северный привет!
Московы ветер, мягче будь,
Лети пушинкой до Ирана.
Его встревоженные раны
И освежи, и поцелуй…
За озером так грустно мне
Глядеть на белые равнины.
Твои дома из серой глины
Я вижу в беспокойном сне.
По всей вероятности, Чачиков поучаствовал и в делах Гилянской республики, когда ревоюционные события захватили прикаспийские территории Ирана. Об этом может свидетельствовать, в частности, еще одно стихотворение поэта 1921 г., в котором рассказывается о поисках Ханум своего возлюбленного Халила, который погиб в бою:
Ханум! Ханум!
Халила нет:
Он пал в бою под Керманшахом
Во имя смуглого Аллаха.
Зачем не ты коснулась глаз, —
Вся трепетная и живая, —
Когда отряд совсем растаял
И пыл бойцов последних гас.
В 1918-1919 гг. Чачиков жил в Тифлисе, где сблизился с футуристами и выпустил персидскую поэму «Инта». Потом он жил в Батуми и работал в Наркомпросе. Названия его последующих сборников стихов говорят сами за себя: «Чайхане» (1927), «Тысяча строк» (1931), «Новые стихи» (1936). В них автор использовал так много слов из разных, прежде всего восточных, языков, что это вызывало обоснованную критику. В одной из рецензий на сборник «Чайхане» отмечалось, что поэт «хотел охватить не только быт и нравы, но и наречия… Персидские (а может быть, и на других языках) слова встречаются, вероятно, в большем количестве, чем у Гафиза в подлиннике». И не случайно Чачиков очень много переводил национальных поэтов России, в том числе кавказских.
Очень интересная история случилась с Чачиковым, когда он познакомился с некоторыми стихами Сергея Есенинаиз его цикла «Персидские мотивы». Первоначально он, завидев в Есенине явного конкурента, посягнувшего на восточные темы, выступил с резкой критикой его цикла. В стихотворении «Сергею Есенину» (лето 1925 г.) Чачиков прямо упрекал последнего, что он слишком поверхностно окинул взором Иран - «Родину мою, желанную страну», что при этом он думал не о жителях Персии, не об их бедствиях, а о «платочках алых русских говорливых баб», о кабаке, о «стеблях конопли», намекая на пагубные пристрастия Есенина:

Не тебе, рязанский соловей,
Петь ширазских роз благоухание!
Персиянки смуглое признание
Не тебе, рязанский соловей!
Ты прошел, окинув только взором
Родину мою, желанную страну, —
Сердцем весь еще в своих просторах,
В васильками зацветающем плену…
Ты хотел раскрыть страны загадку
Да на тари звонкой поиграть, —
Русскою гармошкою-двухрядкой
Обернулась наших песен мать.
Но прошло всего полгода, и Есенин погибает. Чачиков, узнав об этой трагедии, через два дня после убийства пишет совсем другое стихотворение, фактически извиняясь им за написанное ранее и соединяя судьбу Есенина с великими персидскими лириками. Любовь к Персии сблизила все-таки поэтов:
Замолкли Гюлистана соловьи,
Шираза розы вмиг увяли.
Так песни лучшие земли —
Слова поэта отзвучали.
Омар, Саади и Гафиз
Его к себе на пир зазвали,
И гостю на своем фарси
Газеллы звонкие читали.
Голубоглазый, он стоял,
Чужие слушая мотивы, —
Но вспомянул родные нивы,
Избушку и погоста вал…
Всё приближалась песня эта,
Гоня предутренний туман.
Встречали русского поэта
Мешед, Шираз и Гюлистан.
И не знал тогда Чачиков, что и его ждет трагическая смерть, правда на поле боя. Сразу после начала Великой Отечественной войны он ушел на фронт и погиб там в 1941 г.
Георгий Иванов
Совсем нечасто, но в пору Серебряного века в России звучала и критика чрезмерного увлечения поэтами восточным колоритом. Так, поэт Георгий Владимирович Иванов (1894–1958) с язвительной критикой упоминал о приверженности персидских поэтов к «цветам и именам» и об остутствии в их творчестве темы смерти (хотя это было совсем неверно):

Восточные поэты пели
Хвалу цветам и именам,
Догадываясь еле-еле
О том, что недоступно нам.
И эта смутная догадка,
Полу-мечта, полу-хвала,
Вся разукрашенная сладко,
Тем ядовитее была.
Сияла ночь Омар Хайяму,
Свистал персидский соловей,
И розы заплетали яму,
Могильных полную червей.
Однако сам Георгий Иванов, начинавший как футурист, а потом ставший акмеистом, тоже попал в плен восточной поэзии, создавая свои подражания персидским лирикам. Вслед за Михаилом Кузминым он написал свой цикл «Газеллы» и, конечно, не мог не воспевать Гафиза, считая и себя самого «гафизитом»:
Где ты, Селим, и где твоя Заира,
Стихи Гафиза, лютня и луна!
Жестокий луч полуденного мира
Оставил сердцу только имена.
При этом Персия и перед Ивановым маячила, как вожделенное место, ведь он наслушался рассказов о ней от своих друзей, в том числе Сергея Городецкого. А в 1921 г., когда в Иране закрутился вихрь революционных событий и туда устремились многие знакомые поэта, Иванов спел настоящий гимн персидской земле:
Меня влечет обратно в край Гафиза,
Там зеленел моей Гюльнары взор
И полночи сапфировая риза
Над нами раскрывалась, как шатер.
И память обездоленная ищет
Везде, везде приметы тех полей,
Где лютня брошенная ждет, где свищет
Над вечной розой вечный соловей.
В то время Сергей Есенин еще даже не побывал в Баку и Мардакянах и, конечно, даже не замышлял своих «Персидских мотивов», а Георгий Иванов совершенно в «есенинском духе» пел о любви с восточным колоритом:
Ты желанна! Ты желанен! —
Я влюблен! Я влюблена!
Как Гафиз-магометанин,
Пьяны, пьяны без вина!
И поем о смуглой коже,
Розе в шелковой косе,
Об очах, что непохожи
На другие очи все.
А уже через год, в 1922 г., поэту было суждено уехать в эмиграцию, в Европу, на долгих 36 лет, и мечты о Персии там заметно потускнели.
Всеволод Рождественский
Магнит Персии затронул и Всеволода Александровича Рождественского (1895-1977), известного советского поэта, который начинал как акмеист, близкий к Н. С. Гумилеву, и еще в 1912 г. посвятил последнему, зная его пристрастие к Персии и персидским миниатюрам, стихотворение, наполненное «иранскими приметами» («тюльпан Шираза», «пыльный дервиш», «храни его Аллах»):
В четырнадцатиградусный мороз
Увидел я, садовник вечных роз,
Твои персидские миниатюры,
И душно мне от северной тоски,
Когда, кружась, на мех медвежьей шкуры
Засохшие ложатся лепестки.
Следуя заветам Гумилева, Рождественский и после его смерти наполнял свои стихи сюжетами, где фигурировали путешественники, пираты, корсары, рыцари и т. д. Его поэзия вообще имела часто описательно-притчевый и историко-географический оттенок. Мне особенно нравится сборник поэта «Поющая земля. География в стихах» (Л., 1929), выпущенный вроде бы для детей, но на самом деле рассказывающий любому читателю о самых различных регионах Страны Советов: от Ледовитого океана, тундры и Волги до Крыма, Кавказа, Туркестана и Сибири. Этим сборником Рождественский, хотя бы частично, но исполнил замысел своего учителя Н.С. Гумилева, задумавшего в конце жизни подготовить большую книгу «География в стихах», но не успевшего этого сделать.
Рождественский долгие годы много переводил, в том числе поэтов Востока, и особо любил Низами Гянджеви, которому посвятил замечательное стихотворение, наполненное и мудростью, и интригой:

В незапамятные времена
Под горячим куполом Востока
На большом ковре в тени чинары
Под фонтана неустанный лепет
О делах, достойных размышленья,
Шла неторопливая беседа
У куста иранских белых роз.
Юный шах, владыка из владык,
Древних книг и мудрости ревнитель,
Пьющий из источника познаний,
Спрашивал, перебирая четки,
У своих друзей и приближенных,
Перед ним сидевших полукругом:
«Что всего прекрасней на земле?»
Участвовавшие в этом споре предлагали разные варианты ответа: и «оазис с пальмами над ручейком прохладный», и «летящий на коне копьеносец-бедуин», «и вышедший под всеми парусами корабль», и «обнаженная дева, выходящая из бассейна». Но всех прервал шах и сказал:
«…Послушаем, что нам ответит
Низами, великий созерцатель
Звезд на небе и велений сердца,
Мудрописец правды и добра!»
И мудрец, не опуская взора,
Вынул из-за пазухи лепешку:
«Вот и всё, чем я сейчас владею.
Если разделю ее с голодным,
Стану во сто раз еще богаче.
Красота не в облике — в деянье,
В том, что люди — братья на земле».
Наиболее ярко «персидские мотивы» прозвучали в исторической песне Рождественского «На Волге», посвященной популярному среди поэтов, как мы уже отмечали ранее, сюжету о Степане Разине, бросившем за борт персиянку. Однако у Рождественского она становится… русалкой в «речных палатах» и все время грезит об утерянной, очаровательной Персии:
А только забудется сном молодым,
Всё видится ей, как в тумане:
По морю Хвалынскому с ветром тугим
Бегут паруса к Ленкорани.
Там персики зреют на низких ветвях,
Шуршат неумолчно фонтаны
И к синим горам в золотистых песках
Верблюжьи бредут караваны.
Там слуги подводят коня под уздцы,
Звенят на запястьях браслеты,
Лазурных мечетей горят изразцы,
А розы Хафизом воспеты...
«Русалки бессмертны»: и вот персиянка в образе русалки видит уже плывущие по Волге, около Жигулей, пароходы, где «люди иной, непонятной земли» на палубе «поют про нее и Степана». И только молодой капитан, бывший «немного поэтом», увидев однажды в бинокль русалку, отдает ей «прощальный гудок»… Таким вот странным образом перемешались времена в стихах Рождественского, в стихах уже советского звучания. Ему повезло в жизни: Серебряный век закатился, а он уже в другие времена еще более 50 лет занимался поэзией, выпустив около 20 сборников стихов, несколько томов «Избранного» и переводов, ряд книг для детей, а также воспоминания, книги о Пушкине и других русских поэтах. При этом он никогда не забывал о «восточном векторе» своих творческих интересов.
Григорий Санников
Завершить рассказ о «персидской струне» в русской поэзии Серебряного века можно рассказом о Григории Александровиче Санникове (1899-1969), участнике Гражданской войны, зачинателе советской поэзии, первые стихи которого хвалили Андрей Белый, Осип Мандельштам и близкий к нему Сергей Есенин. Санникову посчастливилось в 1920-е годы объехать не только Закавказье, Среднюю Азию, Аравию, но и вожделенный Иран, что не могло не вылиться в целые циклы восточных стихов поэта («Молодое вино», «На память океану», «Восток», роман в стихах «В гостях у египтян»);, «сочных» и зримо представляющих картины, в том числе, и иранской жизни, ведь автор видел их своими гдазами, а не черпал только из тайников классической персидской поэзии. В 1926 году вместе с А.С. Новиковым-Прибоем Санников совершил путешествие по морям вокруг Европы, и его не случайно потом называли «поэтом моря и Востока». Вот его впечатления от Тавриза, где автор «встречался» с самим Саади:

В невеселом городе Тавризе,
Где сады, сады, сады,
Полюбил я лирику Хафиза
И простую мудрость Саади.
По базарам шумным я толкался,
На коврах курил ли в чайхане,
Саади седой со мной встречался,
За кальяном улыбался мне.
И о чем-то издавна понятном
Говорил мне добрый Саади:
— Не горюй, мой друг, о невозвратном,
Радуйся тому, что впереди!
И пьянился чистый дым кальяна,
Слышно было, как века текли,
Осыпались розы Гюлистана
И еще роскошнее цвели.
Как видим, здесь звучат те же проверенные другими поэтами «восточные уловки» с садами, розами, кальяном, но сделано это элегантно и красиво. А вот уже конкретное наблюдение поэта за «тружеником ослом». Автор спрашивает:
Суровой бедности слуга покорный,
Безрадостный, измученный осел,
О чем ревешь ты по аулам горным,
О чем грустишь над тишиною сел?
К кому взываешь, труженик усталый,
Когда, скользя на тоненьких ногах,
Под кладью тяжкой высоко в горах
Одолеваешь перевалы?
И сам же автор отвечает, придав всей этой картине «революционный подтекст»:
Нуждой колониального Востока,
Отчаяньем аулов, горем сел
Твой рев разносится по всем дорогам,
Безрадостный, измученный осел.
Примерно такая же критика спрятана и в стихотворении Санникова «В ковровой мастерской» (1925), где показан тяжкий труд ковровых мастеров:

Высоки большие пяльцы,
В долгой песне мало слов,
И болят, и ноют пальцы
От бесчисленных узлов.
День за днем — узлы да слезы,
Шелест ниток, шелест слов.
Твой ковер в роскошных розах,
Жизнь — в уколах от шипов.
А вот так представлены поэтом мастера по сапожному делу – айсоры, представители народа, живущего в северо-западной части Ирана в районе озера Урмия и Турецком Курдистане (1956):
Зноем выжженный край Урмийский.
Плоскогорье. Степные просторы.
Здесь потомки царей ассирийских —
В нищете погибают айсоры;
Мастера по сапожному делу,
Ремеслом своим гордое племя,
На родном языке огрубелом
Чтут рожденного в Вифлееме…
Но спроси, где ни встретишь, айсора:
«Любишь Урмию?» — он ответит,
Посветлев на мгновенье взором:
«Больше всех городов на свете!»
Конечно, Санников не только изобличал контрасты и неустройства восточной жизни. Много стихов он посвятил великим персидским лирикам. Послушаем, какой гимн он пропел неподражаемому «Фирдоуси» (1933):

Были ветры, и были дожди,
Ураганы нашествий, войны,
Сменялись династии, ханы, вожди...
Ты бессмертен, бессмертья достойный!
За народом народ, за веками века.
Осыпались дворцы и мечети.
А творений твоих ни одна строка
Не померкла за десять столетий.
Несмотря на то, что «на дворе» тогда была и индустриализация, и коллективизация, поэт довольно смело призвал других поэтов СССР следовать заветам Фирдоуси:
Ты, познавший тысячу лет,
Не утративший свежесть росы,
Дай нам силу твою, поэт,
И свою озаренность, Фирдоуси,
Чтоб в сказаньях восславили мы,
Мы — двадцатого века поэты,
Дух Ормузда и царство света,
Сокрушающих царство тьмы.
А великий Хафиз возникает у Санникова, как автор «Дивана» и замечательных «газелл», который вызывает своими стихами к погруженному в фантазии поэту «милую Джемиле»:
Синий, синий свет Тавриза,
Алой розы нега и дурман...
Это мнилось мне,
Когда Хафиза
Я читал лирический «Диван».
Та же Джемиле возникает снова в стихотворении поэта «В киновари зноя» (1956):
И во всем иранском царстве,
Я прошу тебя понять,
Нет и не было лекарства,
Чтобы боль мою унять.
Только ты одна, Джемиле,
Ты могла бы мне помочь.
Широко раскинув крылья,
К нам плывет навстречу ночь.
Особенностью манеры Санникова было то, что он не боялся подправлять или даже опровергать великих поэтов древней Персии, что вообще-то встречалось очень и очень редко. Вот сделанная им занимательная корректировка «газеллы Хафиза»:

У Хафиза есть газелла,
А в газелле той строка:
Пей! — кому какое дело,
Жизнь на свете коротка.
Коротка. Но если с толком
Сердца жар в нее вложить,
То и после смерти долго
Будешь ты на свете жить.
А в «Разговоре с Омаром Хайямом» (1956) Санников покусился на мудрость самого афористичного персидского поэта и сделал это так виртуозно, что ему можно только аплодировать (приведем лишь два примера):
Говорил Хайям, хмелея:
Дней грядущих не зови,
Дней ушедших не жалея,
Днем сегодняшним живи.
Я с Хайямом не согласен:
В нашей жизни для меня
День сегодняшний прекрасен
Солнцем завтрашнего дня.
* * *
Ты твердишь мне: пей вино —
Все мы в этом мире тленны,
Мы песчинки во вселенной,
Ничего нам не дано.
Все мы тленны. Несомненно,
Но подумай, друг седой:
Быть песчинкой во вселенной
Все равно что быть звездой.
Конечно, жизнь поэта не вписывается лишь в его творческие интересы к различным темам. Много лет Григорий Санников посвятил редакционной работе в известных журналах: «Красная новь», «Октябрь», «Новый мир». В годы Великой Отечественной войны он работал во фронтовой печати и получил серьезную контузию. И до конца жизни всегда был верен главному своему выбору – поэзии.
«Персидские ноты» Серебряного века и советской поэзии. Часть IV

Советские поэты и Иран
После середины 20-х годов ХХ века в русской поэзии, которая незаметно и постепенно после завершения Серебряного века стала в силу ряда понятных причин приобретать черты советской поэзии, происходит явное понижение интереса к иранской теме, что объяснялось во многом, свертыванием революционных выступлений в Иране, затуханием в то время взаимных отношений двух стран и появлением совсем иных тем для творчества поэтов. Однако все равно, хотя и более редко, «персидская струна» звучала и в те годы.
Дмитрий Борисович Кедрин (1907–1945), мастер исторической поэмы и баллады, переводивший много стихотворений поэтов различных стран, совершенно не случайно воспевал «блистательного Саади», слово которого «пахло медом и плодами», «как ароматические травы», и звучало «песней жаворонка в росах луга» (1936). А в 1935 г. Кедрин написал поэму-стихотворение «Приданое» о «бренности бытия» и о долголетних трудах «благородного Фирдуси» (Фирдоуси), воспевавшего в стихах Иран и видевшего в них, в том числе, и истинное приданое для своей дочери:

В камышах просохли почки,
Зацвели каштаны в Тусе
Плачет розовая дочка
Благородного Фирдуси:
«Больше куклы мне не снятся –
Женихи густой толпою
У дверей моих теснятся,
Как бараны к водопою.
Вы, надеюсь, мне дадите
Одного назвать желанным.
Уважаемый родитель,
Как дела с моим приданым?»
На этот вопрос Фирдуси ответил своей дочери:
«Завтра утром я засяду
За сказания Ирана,
За богов и за героев,
За сраженья и победы
И, старания утроив,
Их окончу до обеда,
Чтобы вился стих чудесный
Легким золотом по черни,
Чтобы шах прекрасной песней
Насладился в час вечерний.
Шах прочтет и караваном
Круглых войлочных верблюдов
Нам пришлет цветные ткани
И серебряные блюда,
Шелк и бисерные нити,
И мускат с имбирем пряным,
И тогда, кого хотите,
Назовете вы желанным».
Прошли долгие годы, только после смерти Фирдуси его ждало признание шаха, а дочь его смогла получить приданое лишь в глубокой старости, когда оно ей было уже не нужно. И, описав печальную судьбу знаменитого персидского лирика, Кедрин, по мнению литературоведов, обогатил свою поэму явным автобиографическим подтекстом, усилив её звучание собственными переживаниями и мрачными предчувствиями, ведь поэту суждено было трагически погибнуть в 1945 г., не прожив и 39 лет. А тайна его смерти под электричкой в Подмосковье не разгадана до сих пор…
Вера Михайловна Инбер (1890-1972), начинавшая как типичная представительница поэтического Серебрянного века, пережившая блокаду Ленинграда, посетила Иран в составе деятелей советской культуры, в том же 1946 г., как и А. Сурков, выпустив потом путевые очерки «Три недели в Иране». О характере ее прочтения Персии можно судить по приводимой ниже «Иранской миниатюре»:
О Персия! Ты — горная коза,
Еще мгновенье — и тебя не станет.
Смертельное объятие туманит
Твои миндалевидные глаза.
Но золотой с короною на гриве,
Вдруг замер на малиновом шелку
Британский лев, увидя в перспективе
Америку, готовую к прыжку.
Можно констатировать, что Вера Инбер стала первой русской поэтессой, посетившей Иран. И кто, как не женщина, воспитанная на традициях Серебряного века, могла сравнить Персию с горной козой, имеющей «миндалевидные глаза»?

Во время Великой Отечественной войны многие писатели и поэты находились в эвакуации в Средней Азии, и, как это было ранее, когда мастера рифмы оказывались вблизи иранских границ, поэты не могли обойти вниманием персидские сюжеты. Так поступил и поэт, переводчик восточной поэзии и филолог, бывший даже в 1927-1927 гг. председателем Всероссийского союза поэтов, Георгий Аркадьевич Шенгели (1894-1956). В 1944 г. в Фирюзе под Ташкентом у него родились такие строки:
За слоистыми горами
В двадцати верстах — Иран;
Из Ирана к нам утрами
Пробирается туман.
А от нас в Иран уходит
Ночью синяя звезда
И минувший день уводит
За собою навсегда.
Трудно мне. И жизнь — короче,
От тебя я так далек…
С кем вдыхаешь белой ночи
Перламутровый дымок?
Николай Семенович Тихонов (1896-1979), первым из советских писателей удостоенный звания Героя Социалистического Труда, один из столпов советской поэзии и лауреат многочисленных премий, возглавлявший некоторое время Союз писателей СССР, много путешествовал по Кавказу, Туркмении и восточным странам, занимался переводами армянских, грузинских и дагестанский поэтов. Названия сборников стихов и поэм поэта «Орда», «Брага», «Два потока», «Стихи о Кахетии», «Грузинская весна» напоминают о направлении интересов Тихонова. И в ряду его авторитетов был бессмертный Саади:
Светом в очи дрожь дней о саде,
Где веселий алых чалма,
Этой ночью рожден Саади —
Ожерелья Аллы алмаз.
Павел Григорьевич Антокольский (1896 – 1978) – известный русский поэт, переводивший на pусский язык лучшие обpазцы азеpбайджанской поэзии, в стихотворении «Баку» уже в 1950 г. вслед за Валерием Брюсовым, воспевавшем столицу Азербайджана в середине 20-х годов, тоже писал об исторической связи этого города с Персией:
Здесь поклонники Агуpамазды
Жгли огонь на выщеpбленном камне.
Здесь Тимуp-хpомец, на все гоpаздый,
Оpдами стоял у Волчьих Вpат.
Здесь, на дpевней отмели Хвалыни,
Чеpное сокpовище хpанится.
На солончаках, сpеди полыни,
Землю благодатную буpят.
Моисей Нумович Цетлин (1905-1995), совсем забытый ныне поэт, издавший при жизни лишь один поэтический сборник «Линии ливня», серьезно интересовался исламским Востоком и переводил восточных поэтов. В 1980 г., уже совсем в другую эпоху, он, как будто бы «гафизит» Серебряного века, вновь спел гимн великому Хафизу:
На фарси — персидском языке —
Говорил Хафиз. Люблю я
Мудрость и усмешку золотую
Моего прекрасного поэта.
До него сказал Екклесиаст:
Суета сует. Всё станет тленом —
И любовь, и мудрость, и поэмы.
Ах, путей премного у Аллаха.
Очень разных, очень непохожих.
По любому, не страшась, иди!
Истин — много, а Аллах — над всеми.
Все дороги к одному приводят:
Дервиша, блудницу и певца.

Моисей Цетлин серьезно интересовался и судьбой первого русского поэта, которому открылся Иран - А.С.Грибоедова. Показательно в этом отношении его стихотворение, в котором он вспомнил жуткие детали тегеранской трагедии: и растерзанное тело поэта, с «рваными ранами», «затоптанное в кровь», и тень забвения, летающая над могилой поэта.
Посол Невы
Сардар надменный в дымных рваных ранах,
Растерзанный жестоко в Тегеране
Толпой, порывом мстительным объятой.
Посол Невы. Поэт. Не соглядатай.
В прах, в кровь затоптанный. Тяжка обида
Роксаны приснопамятной бактрийской.
Горька судьба словесности российской.
Забвенья ангел на горе Давида.
В этом стихотворении поражает скрытое и не совсем понятное сравнение жены Грибоедова Нины Чавчавадзе с Роксаной, супругой Александра Македонского. Вероятно, автор посещал гору Мтацминда в Тбилиси, где трагедия Грибоедова чувствуется особенно остро, и это посещение произвело на него сильное впечатление.
Переводчик многих восточных поэтов – от «Поэмы о Гильгамеше» и Фирдоуси до Навои и Турсун-заде - Семен Израилевич Липкин (1911-2003) сам был интересным и оригинальным поэтом. Он был близок к Эдуарду Багрицому, который посещал Иран и не мог не заронить в молодом поэте интерес к далекой удивительной стране. Багрицкий посоветовал Липкину переехать из Одессы в Москву в 1929 г., где тот выучил фарси и постепенно погрузился в мир Востока. Творческий почерк Липкина может представить хотя бы отрывок из его подражания Саади «Вожатый каравана» (1966) о несчастной любви:

Звонков заливистых тревога заныла слишком рано, —
Повремени еще немного, вожатый каравана!
Летит обугленное сердце за той, кто в паланкине,
А я кричу, и крик безумца — столп огненный в пустыне.
Из-за нее, из-за неверной, моя пылает рана, —
Останови своих верблюдов, вожатый каравана!..
Мне толки слушать надоело, мой день затмился ночью:
Исход моей души из тела увидел я воочью!
Она и лживая — желанна, и разве это странно?
Останови своих верблюдов, вожатый каравана!
А в стихотворении «Узнавание» (1969) повествуется уже о счастливой любви в персидском духе:
Подумал я, взглянув на белый куст,
Что в белизне скрывается Ормузд:
Когда рукой смахнул я снег с ветвей,
Блеснули две звезды из-под бровей…
Я узнаю во всем твои черты.
Так что же в мире ты и что не ты?
Всё, что не ты, — не я и не мое,
Ненебо, неземля, небытие,
А все, что ты, — и я, и ты во мне,
И мир внутри меня, и мир вовне.
Семен Липкин, как никто другой, благодаря углубленному знанию восточной культуры, являет удивительный пример единения и слияния ее с российской культурой. Поэзия долгие годы звучала в его сердце, и он мог бы и о себе сказать так же, как он сказал о Рудаки, переведя на русский язык его признание о любви к поэзии:
Я сердце превратил свое в сокровищницу песен,
Моя печать, мое тавро — мои стихи простые.
Я сердце превратил свое в ристалище веселья,
/Не знал я, что такое грусть, томления пустые.
Я в мягкий шелк преображал горячими стихами
Окаменевшие сердца, холодные и злые…
Александр Васильевич Халдеев (p. 1943) – русский поэт Азеpбайджана, пеpеводчик совpеменной азеpбайджанской поэзии в своей «Бакинской рапсодии» вновь указал на смешение в истории Баку разных столетий:

Хочу я вновь пpойти
По улочкам твоим,
У кpепостных воpот
Легко сместить столетья.
Мы двеpцу, гоpод мой,
В легенды отвоpим,
Пусть в лица нам дохнет
Восточных сказок ветеp!..
А в «Балладе о городе ветров» Халдеев снова вспомнил Персию:
Шли каpаваны,
Как столетья,
Везли из Пеpсии шелка.
Погонщик стаpый щелкал плетью
И воду пил из буpдюка…
И вдоль синеющего моpя
Путь каpаванный пpолегал.
И били волны,
С ветpом споpя,
Как в бубны,
В гpебни дpевних скал.
Сергей Владимирович Маркус (род. 1955), культуролог, искусствовед, поэт, приняв ислам и имя Джаннат (араб. – рай), совершил хадж в Мекку, побывал во многих мусульманских странах, в том числе в Иране, став видным деятелем мусульманского движения, главным редактором сайта и журнала «Исламская культура». И, конечно, он не мог не коснуться в своих поэтических зарисовках «Из иранских стихов» (2012) «персидских впечатлений» с ярким исламским подтекстом, чувствуя благодать Ирана:
Здесь нынче кормят белых голубей —
Они же в небо черное взлетают.
Картины проще нет и зова нет ясней:
Медлительно Иран свечою тает,
Столетьями нам вольно рассыпая
Зерно и хварну благодатных дней.
Здесь ночью кормят белых голубей…
Маркус разгадывал в своих стихах многие загадки Ирана. И переход от зороастризма к мусульманству:
Загадки нет: Иран впитал Ислам,
К нему веками мудрецы стремились.
Арабы-проповедники дивились:
К Единобожию народ сбежался сам.
И связь ислама с христианством:

Здесь дух Исы — он вознесен на небо…
Но вот сосна качнулась — рядом он…
Сепах Салар крошит иранским хлебом,
И слышен издаль русский чистый звон.
Вверху, невидимый, узор для Бога вышит
Лазурью изразцов — но кто увидит их?
Ах, с Севера летят, с морозной выси,
И голуби в Иран, и легкий русский стих.
И очарование исламской веры:
Аллах дивно-женственным создал
Каркас мирозданья живого.
Сколь щедро нам россыпью роздал
И камень, и краски, и слово!
Не бойся — запомни рисунок,
Скользящий лучами в мечети:
Здесь ангелы тихо на струнах
Играют, как птицы и дети.
А вот запоминающиеся тегеранские зарисовки поэта:
Спускаемся обратно вниз с горы,
Нас манит Тегеран углями-светлячками:
То перед нами в темноту сползли
Иль прячутся — вновь поворот — и с нами.
Где пахнет пловом, там сантур звенит,
Там с дынями в цветах свеча персидски тает,
Вздыхает сладко попугай — ах, он не спит!
И четками созвездий ночь играет…
И призыв идти в Мешхед, духовную столицу шиитов:
Иди в Мешхед, где на закате купол
так драгоценным золотом горит!
Иди в Мешхед, где вслед азану голубь
с тобой к Имаму в Сад святых летит!
Ислам был (вспомним влечение к мусульманству великого Гете) и остается притягателен для многих поэтов, особенно тех, кому удалось близко познакомиться с исламским миром и, в частности, с Персией.
Аида Соболева (р. 1961), журналист, сценарист и режиссер многих документальных фильмов, в том числе «Благословенная земля персилская» (2006), делающая многое для отечественной иранистики, не раз бывала в Иране, проявив себя и с поэтической стороны. И ей удалось вдохнуть в постижение Персии «женские черты»:
Нежный цветок Ардебиля!
Солнечный твой аромат
Бабочек легкие крылья
Долго в полете хранят.
Слушают травы, как сказку,
Голос твой — шепот реки.
Лета ушедшего ласку
Дарят твои лепестки…
И как часто это бывает у поэтов, Соболева, отталкиваясь от простых вещей (в данном случае от обычной чинары), поднимается над прозой жизни:

Чинара, из плена тенистых ветвей
Пусти меня — путь мой далек!
Мне будет в лицо ударять суховей,
Но вышел для отдыха срок.
Недолго тебе оставаться одной —
Как только расстанусь с тобой,
Под сенью твоей уже путник иной
Забудет усталость и боль.
Но верить хочу, что опять и опять,
Когда загрущу среди гор,
Ты будешь, как прежде, цветеньем сиять
И свой мне раскроешь шатер!
И поэтесса не могла не вспоминать великих персидских лириков, показывая нам, что связь с ними сохраняется и бежит через века. У могилы Хафиза в Ширазе бессмертная поэзия просто витает в воздухе (автор настоящей книги испытал в этом городе такие же чувства):
Молодой европеец (наверно, поэт)
Что-то шепчет, гуляя по саду,
И сорвав апельсин — свой счастливый билет,
Обнимает резную ограду.
И в сияющем небе плывут облака,
Чуть шутливо гонимые бризом.
И уходят века. И приходят века,
Чтоб беседовать снова с Хафизом.
Отдельными стихотворениями, положенными на алтарь поклонения «персидскому миру» в советской поэзии и в первые годы новой России заявляли о себе многие поэты. В силу ограниченности объема книги перечислим лишь имена этих поэтов с указанием некоторых их стихотворений: Лев Иванович Ошанин (1912—1996) («Разговор Ибн Сины с песчаным ветром», поэма «Вода бессмертия» об Александре Македонском), Николай Иванович Глазков (1919—1979) («Из Фирдоуси»), Евгений Михайлович Винокуров (1925—1993) («Омар Хайям», «Суфий», «Авиценна»), Анатолий Константинович Передреев (1932—1987) («Восточный мотив», сборник стихотворений «Дорога в Шемаху»), Тимур Зульфикаров (род. 1936) (знаменитый на весь мир писатель создал, по сути, новый жанр стихопрозы, в котором поэтизировал и воспел мусульманский Восток; образцом этого жанра можно назвать «Книгу откровений Омара Хайяма»), Александр Семенович Кушнер (род. 1936) («Иранские миниатюры»), Равиль Бухараев (1951—2012) («Ислам»), Виктор Генрихович Гофман (род. 1950) («Медресе»), Александр Павлович Фурсов (род. 1961) («Зозы стихов Хайяма…», «Мой исток»), Темур Варки (род.1962) («Над могилой Абдурахмана Джами»). Надеемся, что эта «персидская линия» в отечественной поэзии не прервется и дальше…
Алексей Сурков
Поэт Алексей Александрович Сурков (1899–1983), широко известный своими популярными песнями, в особенности песней «В землянке» («Бьётся в тесной печурке огонь…»), писал в 1946 г. в стихотворении «Шираз» с явным политическим подтекстом против «империалистических» попыток закабалить Иран:

Желтый лев на фуражке сарбаза.
Тень сарбаза плывет вдоль стены.
Знаменитые розы Шираза
Увядают, жарой спалены.
Позолотой покрыв минареты,
Солнце медленно падает вниз.
В этом городе жили поэты
Саади, Кермани и Хафиз.
А теперь в этом городе старом,
Что от пыли веков поседел,
Проза жизни шумит над базаром
Суматохой обыденных дел.
Как среди этой прозы жестокой
Нежность речи певучей сберечь,
Если бархатный говор Востока
Заглушает английская речь…
Если рыжим заморским банкирам
Льва и Солнце стащили в заклад;
Если нынешним Ксерксам и Кирам
Сшит в Нью-Йорке ливрейный наряд...
Конечно, это уже совершенно новое, политически окрашенное слово в поэтическом прочтении иранской темы. Соцреализм брал свое у поэта, считавшего себя ранее акмеистом и учеником Николая Гумилева, прошедшего самые суровые военные будни. В послевоенные годы Сурков, который, кстати, умудрился возглавлять в разное время и «Новый мир», и «Литературную газету», и «Огонек», был первым секретарем Союза писателей СССР, много путешествовал в составе литературных и общественных организаций, посетив Англию, Китай, Индию и… Иран. И он имел полное право утверждать стихами:
Я в жизни объехал много стран,
Англию видел, видел Иран...
Прибыв в Иран в 1946 г., Сурков сначала увидел душный и знойный Тегеран:
Душный зной навис над Тегераном.
Нет в тени прохлады поутру.
Трудно нам, заядлым северянам,
Плыть сквозь эту плотную жару…
Поживем денек, другой в накале
И с жарой освоимся вполне.
Мы и не к такому привыкали
У себя, в России, на войне.

Согласно циклу стихотворений Суркова «Иранский дневник» после Тегерана он посетил Шираз, а потом на самолете «Дуглас» прилетел в Абадан, на юг Ирана, где вновь поразился засилию там «империалистов»:
Летчик пробил туман.
Вот и жемчужина юга —
Город огня — Абадан.
Мерных цистерн маршруты,
Вышки, крекинг-завод.
Трубы — щупальца спрута —
Вызмеил нефтепровод.
Здесь шлемоносцами бритыми
Занято всё вокруг.
Маркою «Мэд ин Британи»
Мечен иранский юг.
Лев Ирана, бедняжка,
Не изрыгает гром.
Здесь он юлит, как дворняжка,
Перед британским львом.

После этого поэт посетил Бушир, назвав его «дырой», и вновь обличил язвы «шахского режима»:
Много в подлунном мире
Всяких пропащих мест.
Зной бушует в Бушире,
Серый песок окрест.
Плоские деревеньки.
Плоский залив. Тоска.
Пальмы, как пыльные веники,
Кой-где торчат из песка.
Кто здесь бывал однажды,
Помнит наверняка
Знойное жжение жажды,
Мертвый шелест песка.

Сурков надолго запомнил свою поездку. В 1960 г. он ностальгически возвращался к своим ширазским впечатлениям, ведь ему, пожалуй, первым среди русских поэтов удалось побывать в столице персидской поэзии, исполнив мечту Сергея Есенина. И как важно, что в этих впечатлениях уже отсутствовала политика, а звучало лишь очарование «духом Персии»:
Без малого пятнадцать лет назад
В кругу друзей, под мерный рокот саза,
Под лепет струй и страстный звон цикад
Сидели мы в ночном саду Шираза.
Луна висела ковшиком в выси,
Рой крупных звезд бесшумно плыл в зените,
Узором дружбы русский и фарси
Сплетала ночь, как две жемчужных нити.
Всплакнул шакал. Звезда скатилась вниз,
Плыл легкий звон над неподвижным садом.
И всем нам показалось, что Хафиз
Сел над арыком с музыкантом рядом.
Из-за далеких гор пришел рассвет.
Нет музыканта, и Хафиза нет.
С тех пор прошло уже пятнадцать лет.
Где ты сегодня, мой ночной сосед?
Лирика победила политику… Сурков-поэт, автор «Землянки», заставил вновь звучать изящно и торжественно «персидскую струну русской поэзии…»
Расул Гамзатов
Выдающийся аварский поэт Расул Гамзатов (1923–2003), народный поэт Дагестанской АССР, прожив всю жизнь в родном Дагестане, конечно, не мог не ощущать на себе культурное влияние фактического соседа в лице Ирана. На его творчество оказывало воздействие богатейшее наследие персидской лирики, к которой он относился с любовью и почтением. И совсем не случайно в подражание иранским поэтам и с целью развития устоявшегося жанра Гамзатов создал свои собственные большие поэтические циклы «Четверостишия» и «Восьмистишия», в которых чувствуется явная перекличка с мастерами древней словесности. Но самое главное, что поэту все-таки посчастливилось воочию увидеть иранскую землю, и, видимо, не один раз. Об этом сохранилось мало сведений, но, согласно статье самого Гамзатова «Несколько слов об Омаре Хайяме», он «побывал в Тавризе, в гостях у современного азербайджанского поэта, ныне покойного Шахрияра», в Нишапуре, где похоронен Хайям и где поэт был с поэтом Мирзой Турсун-Заде, в Ширазе, где упокоились Хафиз и Саади, в Мешхеде – месте паломничества для всех шиитов и, вероятно, самом Исфахане.

В своей статье Гамзатов вспоминал и о Рудаки, и о Фирдоуси, и о Джами, и о Руми, и о Низами. Но, как писал автор, «мне больше всех интересен Омар Хайям. Его рубаи наиболее близки и созвучны мне. Поэтому каждый раз, находясь в Иране, я старался съездить поклониться праху великого виночерпия и жизнечерпия всех веков – Омару Хайяму, человеку, который будучи паломником в Мекке, ничего не боясь, так сказал о напитке “запрещенном” Кораном: “До зари я лобзаю заздравную чашу, обнимаю за шею любезный сосуд”. Нишапур, где покоится прах Хайяма, находится недалеко от Мешхеда. В Мешхеде воздвигнут величественный памятник завоевателю полумира шахиншаху Надиру. Он оставил кровавый след и в Дагестане. Этому чугунному всаднику я не поклонился, но поклонился поэту Омару Хайяму, без которого не был бы золотым и радостным век поэзии».
По воспоминаниям Гамзатова, «вокруг могилы Омара Хайяма росло множество грушевых и яблоневых деревьев. Было начало мая, и я вспомнил слова Хайяма: “Могила моя будет расположена в том месте, где каждую весну ветерок будет осыпать меня цветами”.
Я был в Нишапуре вместе со своим другом, народным поэтом Таджикистана, Мирзой Турсун-Заде, он о чем-то спорил с иранскими поэтами, которые сопровождали нас. Один доказывал, что Омар Хайям – таджикский поэт, другой, что иранский. Один говорил, что он учился в Самарканде, другой, что он начал писать в городе мастеров Исфахане. Оба были правы, но я сказал им: “Что он оставил такое наследство, что его хватит для всех, на все времена, всем поколениям. И я аварец без него был бы сиротой”».
Далее поэт кратко описал яркую биографию Хайяма и рассказал, что при прощании с Шахрияром в Тавризе, тот «преподнес мне драгоценный подарок: картину-миниатюру с изображением сидящего на молитвенном коврике Омара Хайяма с чашей вина в руках, рядом с ним сидящую женщину с необычным музыкальным инструментом. Любовь, вино, музыка – все в этой картине! Она висит у меня дома рядом с портретом моего отца и картиной Лермонтова. Дорог мне Омар Хайям, я благодарю переводчиков, особенно тех, которые перевели его на русский язык…»
Итогом встреч Гамзатова с Персией стала его книга «Персидские стихи» (1975), в которую вошло 14 стихотворений, почти столько же, сколько было включено в «Персидские мотивы» С. Есенина. Они были превосходно переведены Яковом Козловским и прекрасно передают восприятие Ирана аварским поэтом. Больше всего стихов он посвятил городу Ширазу и его певцу Хафизу: «В Ширазе», «Хафиз не оставил Шираза», «Розы Шираза» и «Могущество Хафиза», посвятив последний стих С. Есенину. Видимо, именно Шираз оставил у поэта самые яркие впечатления:

Я спросил в Ширазе розу красную:
– Почему не первый век подряд,
Называя самою прекрасною,
О тебе повсюду говорят?
Почему ты, как звезда вечерняя,
Выше роз других вознесена?
– Пел Хафиз, –
сказала роза чермная, –
Обо мне в былые времена.
Поэт пытался понять, почему же из Шираза не уехал бесподобный Хафиз, и нашел ответ:
Манивший из разных сторон мусульман,
Сверкавший подобьем алмаза,
Хоть был недалек голубой Исфаган,
Хафиз не оставил Шираза.
Мерцал полумесяц над свитком дорог,
Но их опасался, как сглаза,
Хафиз потому, что оставить не мог
Печальными розы Шираза.
А в стихотворении «Могущество Хафиза» поэт спросил древнего лирика о своей собственной любви и получил достойный ответ:
И тогда спросил я в изумленье:
– Как, Хафиз, все знаешь ты про нас,
Если от Шираза в отдаленье
Славится не розами Кавказ? –
Лунный свет лила ночная чаша,
И сказал задумчиво Хафиз:
– Знай, любовь существовала ваша
С той поры, как звезды смотрят вниз.
Другие грани Ирана Гамзатов описал в стихах «Мечеть Шах-Абаса в Исфагане», «Персия», «Я ходил по земле шахиншахов», «Сабля Надир-шаха и рубаи Омар Хайяма» и «Ответ Хайяма», где поэт пришел на поклон к древнему мастеру слова и убедился в его духовном богатстве:

Собственному преданный исламу,
Чьи не слишком строги письмена,
На поклон придя к Омар Хайяму,
Осушил я полный рог вина,
И, оставшись трезвым, как арыки,
Вопрошал душевен я и прям:
– Чей ты будешь? Персы и таджики
Спорят из-за этого, Хайям?
Словно из таинственного храма,
Прозвучал ответ его сквозь смех:
– Я не беден, и богатств Хайяма
Под луной хватить должно на всех.
Совершенно понятно, что несколько персидских стихотворений «певец Кавказа» посвятил любви. Стихом «Гугуш» он продолжил есенинскую линию «восточных песен»:
«Верю, верю,
Люблю, люблю».
Трепет коснулся душ.
«Верю, верю,
Люблю, люблю», –
Петь начала Гугуш.
Бьет в маленький бубен ее рука,
Ах, милая ворожея,
Не знаю персидского языка,
Но все понимаю я.
История поэзии удивительна: от Грибоедова до Гамзатова десятки и десятки поэтов России мечтали увидеть персидскую землю, но только единицам из них удалось побывать в Иране, да и то только в ограниченном количестве мест. Гамзатову же повезло больше других, ему открылись почти все знаменитые места Персии, и он по праву мог восклицать: «Я ходил по земле шахиншахов…»
Михаил Синельников
Особые слова следует сказать в нашем повествовании о Михаиле Исааковиче Синельникове (род. 1946), ранние годы которого прошли в Киргизии, где он окончил исторический факультет Ошского педагогического института и не мог не напитаться «восточным духом». В 1969 г. Синельников поступил в московский Литературный институт и стал постепенно не только поэтом со своим голосом, издавшим более 20 поэтических сборников, но и исследователем литературы, переводчиком поэзии, главным образом, восточной, представившим российским читателям произведения многих персидских классиков, а также поэтов Таджикистана. В 2011 г. в свет вышла книга избранных переводов поэта «Поэзия Востока». Синельников - составитель целого ряда антологических сборников, в том числе изданий Омара Хайяма и Хафиза, книг «Персидская классическая поэзия», «Персидская любовная лирика», «Незримое благословенье. Исламские мотивы в русской поэзии», «Лотос в воздухе. Индия в стихах русских поэтов», «Зов Алазани. Шедевры грузинской поэзии в переводах русских поэтов», а также уже упоминавшегося нами издания «Иран и персидские мотивы в стихах русских поэтов», которое неоднократно использовалось при подготовке настоящей книги. И переводы Синельникова достойны того, чтобы по ним изучать поэзию Персии, как и эти строки Хафиза:
Коль тюрчанка ширазская душу мою покорит ворожбой,
За индийскую родинку ей подарю Самарканд с Бухарой.
Виночерпий, пролей мне хмельную струю, ведь не будет в раю
Берегов Рукнабада, садов Мусаллы и любимой второй!
Не углубляясь в оценку переводов поэта, отметим, что его творчество, протекавшее на переломе от советской эпохи к современной России, интересно для нас тем, что Синельников неоднократно посещал Иран, а значит, воочию увидел поэтическим взглядом его пестрые приметы, отразив все это в целом ряде стихотворений, в частности, таких, как «Пустыня», «Оценщик», «Из Саади», «Зухра», «Древний мотив», «Персидская музыка», «Исфахан. В лавке миниатюр». В отличие от многих других поэтов в стихах Синельникова зримо представлены многие места Ирана. Послушаем в нижеприведенных выдержках, как это было сделано поэтом в «Персидских миниатюрах» (2002) и в отдельных стихотворениях 2004-2012 гг.

1396 год. Британская библиотека, Лондон
Тегеран
Среди зелени вечнозеленой,
Погруженной в бессмертные сны,
Снова слышится шум изумленный
Свежей поросли, нежной весны.
Как прекрасна весна в Тегеране!
Здесь ты пьян от нее без вина,
И на миг зеленеют в Коране.
Исфахан
Там, где звон серебряный завис
И текут сапфировые реки,
Типографски изданный хадис
Я купил за доллар у калеки.
...Забывал березовую Русь
Афанасий, ставший здесь шиитом.
Может быть, когда-нибудь вернусь
Жить под сводом, звездами расшитым.
Персеполь
Персеполь. Тронный зал.
Как похоронный звон —
Всё то, что Ты сказал
Над базами колонн.
Газелью занят лев,
Царей унылый ряд
Плетется, присмирев,
Но прозвучал аят.
И вот иссяк исток
И обессилел гул,
Где умер Фемистокл
И высох саксаул.
Шираз
Прекрасна усыпальница Саади,
Вот — Гулистан, благоуханный сад,
И радуги на бирюзовой глади
Сияющего купола горят.
Куда скромней надгробие Хафиза,
Но мрамор светел, арка высока,
И длинный луч, спадающий с карниза,
Удерживает девичья рука.

Мне, как поэту, проехавшему те же самые места Ирана и также оставившему свои поэтические зарисовки «персидских странствий», представленные в Приложении к настоящей книги, особенно близок показ Синельниковым Ирана, как особого, цельного мира, стоящего особняком на карте мировой истории и культуры. И стихотворение поэта «Иран» (2010) показывает это особенно рельефно:
Мне чудились дальние зовы,
И вновь надо мною встает
Твой замкнутый свод бирюзовый,
Прообраз нездешних высот.
Равняя и горы и долы,
И — времени наперерез,
Текут громовые глаголы,
С безоблачных сходят небес.
Ты всё еще держишься в?
«Персидские ноты» Серебряного века и советской поэзии. Часть V
Поэты-переводчики персидской лирики
Снижение интереса к Персии среди поэтов советского периода вполне компенсировалось тем, что в 60–80-е годы прошлого века, как никогда ранее, стали появляться и издаваться массовыми тиражами переводы древней и средневековой классики персидской литературы – Фирдоуси, Хафиза, Хайяма, Саади, Джами, Джалалэддина Руми и других поэтов. Эти издания, в том числе в силу небывалого расцвета в те годы и немного ранее в нашей стране востоковедения, были очень высокого уровня переводческой и исследовательской культуры и нашли живой отклик в умах и сердцах советских читателей, которые тогда, в сущности, впервые открыли для себя очаровательный мир персидской поэзии.
Как ни странно, но в ХХ веке одним из первых серьезно начал заниматься переводами персидских лириков Иван Иванович Тхоржевский (1878—1951), участник белого движения, видный эмигрант с 1920 г., издатель, масон и одновременно поэт и переводчик. Он переводил с французского и итальянского Верлена, Пруста, Малларме, Леопарди, но главный его труд состоял в переводах рубаи Омара Хайяма, за которые он был дважды удостоен почётных отзывов Академии наук еще до революции. В эмиграции Тхоржевский не только стал автором переводов масштабной антологии «Новые поэты Франции» и выпустил перевод «Западно-восточного дивана» Гете (Париж, 1932), но и продолжил погружение в персидскую лирику.
О том, насколько умело Тхоржевский имитировал такую лирику, свидетельствует его виртуозное подражание Хафизу:

Лёгкой жизни я просил у Бога:
Посмотри, как мрачно всё кругом.
Бог ответил: подожди немного,
Ты еще попросишь о другом.
Вот уже кончается дорога,
С каждым днём всё тоньше жизни нить.
Лёгкой жизни я просил у Бога,
Лёгкой смерти надо бы просить.
Представим теперь читателям неколько рубаи Хайяма, переведенные Тхоржевским, чтобы еще раз окунуться в мир «персидской мудрости», воссозданным поэтом в ХХ веке:
Ты обойден наградой? Позабудь.
Дни вереницей мчатся? Позабудь.
Небрежен Ветер: в вечной Книге Жизни
Мог и не той страницей шевельнуть.
* * *
«Не станет нас». А миру — хоть бы что!
«Исчезнет след». А миру — хоть бы что!
Нас не было, а он сиял и будет!
Исчезнем мы… А миру — хоть бы что!
* * *
Из края в край мы к смерти держим путь.
Из края смерти нам не повернуть.
Смотри же: в здешнем караван-сарае
Своей любви случайно не забудь!
* * *
Холм над моей могилой — даже он! —
Вином душистым будет напоен.
И подойдет поближе путник поздний
И отойдет невольно, опьянен.
Тхоржевский сделал многое для того, чтобы именно Омар Хайям стал в ХХ веке и в нынешние времена самым популярным среди всех персидских лириков.
В ряду замечательных переводчиков уже более позднего времени, 70-80-х гг. ХХ века, следует назвать Германа Борисовича Плисецкого (1931—1992), который, хотя и писал собственные стихи, в том числе с оппозиционными к советской власти настроениями, всего себя отдал переводам, в первую очередь восточным. И главная его любовь был также Омар Хайям, «Рубайят» которого в переводе Плисецкого стал событием в истории отечественного переводческого искусства. А началось всё с того, что в 1970 г. автор выиграл в издательстве «Наука» конкурс на перевод стихов персидского мудреца. Плисецкий сам немного иронически объяснял свое пристрастие к творчеству этого восточного поэта:

Картина «На могиле Омара Хайяма»
Джей Гамбидж, ок. 1911
Бог дал Багдад, двусмысленный Восток,
фальшивый блеск, поток речей казенных,
фанатов нескончаемый восторг
и вдоль ограды — головы казненных…
Суровости и сладости вдвойне душа
сопротивляется упрямо.
Хоть сух закон, но истина — в вине.
Что делать мне? Переводить Хайяма.
И вот эти переводы некоторых рубаи Хайяма:
Что сравню во вселенной со старым вином?
С этой чашею пенной со старым вином?
Что еще подобает почтенному мужу,
Кроме дружбы почтенной со старым вином?
* * *
Не рыдай! Ибо нам не дано выбирать:
Плачь не плачь — а придется и нам помирать,
Глиной ставшие мудрые головы наши
Завтра будет ногами гончар попирать.
* * *
Знайся только с достойными дружбы людьми,
С подлецами не знайся, себя не срами.
Если подлый лекарство нальет тебе — вылей!
Если мудрый подаст тебе яду — прими!
В 1970-1980-е годы Плисецкий много переводил другого великого мастера персидской лирики Хафиза (сборник «Сто семнадцать газелей»), делал стихотворные переложения библейских книг, и обращался к творчеству других персидско-таджикских поэтов. И делал это честно и талантливо, оставив для нас много поэтических заветов, таких, как в одном из шедевров Хафиза:
За темной завесою тайна грядущего скрыта,
Но радость, я верю, еще озарит наши лица — не плачь.
Паломник в пустыне, не бойся шипов мугильяна,
Шипы не помеха тому, кто к святыне стремится, — не плачь.
В плеяде поэтов-переводчиков советской эпохи, кроме тех, которые указывались ранее, следует назвать также такие имена (с указанием персидских лириков, которых они переводили): Илья Сельвинский (1899—1968) (Руми, Саади), Аделина Адалис (1900—1969) (Камол Худжанди), Александр Кочетков (1900—1953) (Унсури, Фаррухи, Санаи, Анвари, Хафиз), Николай Заболоцкий (1903—1958) (Масуди Сальман), Арсений Тарковский (1907—1989) (Низами), Владимир Державин (1908—1975) (Фирдоуси, Низами, Саади, Хафиз, Хайям, Джами). Как видим, число русских поэтов, которых в тои или иной степени притягивал «персидский магнит», действительно впечатляет.

Побег в Арзрум, или Самое загадочное путешествие Пушкина
Пост №1: Что нужно знать о самом большом путешествии великого поэта
Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России.
А. С. Пушкин. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года
В этом году мы отмечаем 220-летие со дня рождения «солнца русской поэзии». Необычную дату и отметить хочется чем-то необычным. Повод для этого нам подарил календарь. Дело в том, что 14 мая (2 мая по старому стилю; далее даты вне скобок указаны по новому стилю) исполнилось ровно 190 лет с момента начала самого долгого, самого важного и самого загадочного путешествия в жизни Пушкина — путешествия в Арзрум (современные названия Эрзурум, Эрзрум).

неизвестного художника, ок. 1831
Этому приключению предшествовал неопределенный ответ матери Натальи Гончаровой по поводу сватовства Пушкина: она сказала, что невеста еще слишком молода (Наташе 17 лет…) и решение отложено. Так что поэт в ночь на 14 мая 1829 года без колебаний отправился в давно задуманную им поездку на Кавказ. Неустроенный ни в личной жизни, ни в своем социальном статусе и служебных делах поэт совершает тот самый побег, которым он бредил уже долгое время. И не мог тогда знать, что впереди его ждут невероятные события и что вернется он в Москву только 2 октября 1829 года, то есть его странствие продлится более четырех с половиной месяцев.
Еще в 2015 году мне удалось повторить путешествие Пушкина на Восток. Стартовав 1 мая из Владикавказа на автомобиле, я добрался на нем до Арзрума и вылетел оттуда в Стамбул 9 мая. Конечно, это было более мимолетное и намного более легкое по сравнению с пушкинскими временами странствие, но оно позволило мне ощутить и воочию увидеть прошлое, различив в его тумане мелькающую тень великого поэта.
С учетом юбилеев и самого поэта, и его поездки в Арзрум, настало время представить в серии публикаций яркие приметы и загадки побега Пушкина на Кавказ, в зону, как сказали бы мы сейчас, вооруженного конфликта с Османской империей. К кому и зачем в действительности ехал великий поэт? Почему он делал это тайно и скоропалительно? Какие напасти ждали его на пути? Правда ли, что он встретил по дороге гроб с телом Грибоедова? Можно ли считать, что Пушкин все-таки побывал за границей? Участвовал ли он в боевых действиях? Что ему удалось увидеть и привезти из путешествия? Ответы на эти и другие загадки по-новому представят облик нашего великого соотечественника, о котором, кажется, мы уже знаем все…
Но для этого придется посвятить его восточному путешествию по меньшей мере 15 рассказов, которые мы будем публиковать в течение трех месяцев. И завершимнаше виртуальное путешествие в августе, когда ровно 190 лет назад Пушкин выехал в Москву из Тифлиса.
Пост №2: Дорогами России
Для неба дального, для отдаленных стран
Оставим берега Европы обветшалой;
Ищу стихий других, земли жилец усталый;
Приветствую тебя, свободный океан.
А. С. Пушкин
Итак, в ночь на 14 мая 1829 г. Пушкин отправился из Москвы в свое дальнее путешествие, но неожиданно сделал довольно большой крюк, чтобы увидеть «легенду» того времени генерала Алексея Петровича Ермолова. Послушаем слова поэта:
«…Из Москвы поехал я на Калугу, Белев и Орел и сделал таким образом 200 верст лишних; зато увидел Ермолова. Он живет в Орле, близ коего находится его деревня… Ермолов принял меня с обыкновенной своей любезностью. С первого взгляда я не нашел в нем ни малейшего сходства с его портретами, писанными обыкновенно профилем. Лицо круглое, огненные, серые глаза, седые волосы дыбом. Голова тигра на Геркулесовом торсе. Улыбка неприятная, потому что не естественна. Когда же он задумывается и хмурится, то он становится прекрасен и разительно напоминает поэтический портрет, писанный Довом. Он был в зеленом черкесском чекмене. На стенах его кабинета висели шашки и кинжалы, памятники его владычества на Кавказе. Он, по-видимому, нетерпеливо сносит свое бездействие… Я пробыл у него часа 2. Ему было досадно, что не помнил моего полного имени. Он извинялся комплиментами. Разговор несколько раз касался литературы. О стихах Грибоедова говорил он, что от их чтения — скулы болят. О правительстве и политике не было ни слова».

Пушкин в Михайловском. Художник Б. В. Щербаков. 1969 г.
О чем же еще говорили поэт и генерал? Конечно, о войне на Кавказе, о сменившем Ермолова на его посту Иване Федоровиче Паскевиче, «легкость побед» которого Ермолов не мог не представлять «язвительно», называя последнего Графом Иерихонским, «перед которым стены падали от трубного звука». Говорили об «Истории государства Российского» Николая Михайловича Карамзина: Ермолов «желал бы, чтобы пламенное перо изобразило переход русского народа из ничтожества к славе и могуществу». И не раз вспоминали близкого каждому из них Александра Сергеевича Грибоедова, погибшего всего три с половиной месяца назад. И так получилось, что грибоедовская тема зазвучала с первых дней путешествия Пушкина и сопровождала его рефреном до самого конца.

Литография по рисунку Митрейтера
Очень важно отметить, что рассказ о посещении Пушкиным Ермолова вообще не вошел в окончательный текст «Путешествия в Арзрум», а отразился в так называемом «Кавказском дневнике», который поэт начал вести через две недели после встречи в Орле. Этот дневник лег в основу «Путешествия», написанного и составленного автором в 1835 г., и он не всегда совпадает с текстом данного произведения. Как мы увидим далее, дневник во время своего странствия поэт вел только тогда, когда у него была для этого возможность, и, конечно, многое не попадало в дневник, а просто отпечатывалось в памяти странника.
И еще одно важное наблюдение: расстояния, которые приходилось преодолевать в своем путешествии поэту, не могут не впечатлять, особенно с учетом тогдашнего способа передвижения. Так, чтобы добраться до Орла из Москвы, Пушкину потребовалось более двух суток, ему пришлось проехать через Боровск, Малоярославец, Калугу, Перемышль, Козельск, Белев 358 верст (382 км). А из Орла Пушкин выехал 17 мая, и его ждал путь в 384 версты (410 км) до Новочеркасска через Малоархангельск, Ливны, Елец, Задонск, Воронеж, Казанскую, Павловск. Далее следовать пришлось через Ростов-на-Дону и Ставрополь до Георгиевска, куда Пушкин прибыл лишь 24 мая. А это еще 531 верста (566 км). Обратим внимание, сколько городов и поселков приходилось складывать поэту в свою копилку странствий! И пока он еще движется к Новочеркасску и Георгиевску, расскажем немного о том, какое вообще место в жизни Пушкина занимали путешествия и дороги…

Дорожная шкатулка, печатка и кошельки А. С. и Н. Н. Пушкиных. 1830-е гг. Музей А. С. Пушкина (Санкт-Петербург)
Ах, Пушкин, Пушкин! Сколько всего написано о нем почти за 200 лет, сколько потаенных сторон жизни и творчества поэта было вскрыто его современниками и исследователями. Но еще остались зияющие пустоты в ускользающем портрете человека, которому суждено было заложить краеугольные камни в здание русской поэзии и литературы. И, пожалуй, самое обидное упущение связано с тем, что до сих пор не воссоздана со всей яркостью и широтой странническая ипостась великого поэта, его сильнейшая страсть к путешествиям, а также многие скрытые черты его конкретных скитаний.
Пушкин не просто любил путешествовать, в своих поездках он получал необычный творческий импульс, «полнясь пространством и временем».
«Петербург душен для поэта. Я жажду краев чужих, авось полуденный воздух оживит мою душу», — писал он 21 апреля 1820 г., отправляясь в вынужденное путешествие на южные окраины России. Именно с этого первого длительного странствия и началось время скитаний поэта по просторам Отечества. В повести «Станционный смотритель» он словами своего героя сказал: «…В течение 20 лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям…»
Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть Господь судил… —
писал поэт об этих странствиях в 1829 г. в своем шедевре «Дорожные жалобы». По признанию И. И. Пущина, «простор и свобода, для всякого человека бесценные, для него были сверх того могущественнейшими вдохновителями».

Дотошными исследователями подсчитано, что только по почтовым дорогам и трактам за свою жизнь Пушкин проехал около 35 тысяч верст (русская верста равнялась 500 саженям или 1,0668 километра).
Для сравнения укажем, что это больше расстояния всех переходов путешественника Н. М. Пржевальского. Лишь в Торжке, что лежит на пути между Москвой и Петербургом, поэт побывал более 20 раз. Он посетил сотни губернских и уездных городов, деревень, поселков и станиц, усадеб и имений, останавливаясь на многочисленных почтовых станциях, где нужно было менять лошадей. У поэта не было своего экипажа, и ему приходилось отправляться в дорогу на перекладных, или почтовых, как назывались казенные лошади, нанимавшиеся на станциях. Ехать на них можно было только с подорожной — документом, в котором обозначался маршрут следования, фамилия и должность ехавшего, цель — казенная или личная — поездки, и сколько лошадей можно тому или иному путнику выдать, что строго регламентировалось высочайшими повелениями. Пушкин, получивший после окончания лицея чин коллежского секретаря (10-й класс), а с 1831 г. — титулярного советника (9-й класс), имел право только на три лошади.
Причем за почтовых лошадей всегда брались прогонные деньги (к примеру, за каждую лошадь и версту от Москвы до Петербурга бралось по 10, а на других трактах — по 8 копеек). «Дорожник» за 1829 г. советовал, что если путешественник «прибавит сверх прогонов по копейке на версту, а еще лучше на лошадь, то ямщик за то припрягает лишнюю лошадь, исправляет повозку проворнее, подвязывает к дуге пару звонких колокольчиков, мчит седока, как из лука стрела…» По правилам того времени «обыкновенных проезжающих», ехавших «по своей надобности», можно было возить не более 12 верст в час зимою, летом — не более 10, а осенью — не более 8 верст. Однако в день при быстрой езде проезжали более 100 верст, а по хорошей дороге в случае уговора с лихим возницей — «Ну, ямщик, с горы на горку, // А на водку барин даст», — и до 200 верст в сутки.

Так и представляешь, как Пушкин едет на своей казенной тройке по необъятным снегам и колючему морозцу и сочиняет при этом бессмертные строки:
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит,
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит.
Что-то слышится родное

В долгих песнях ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска…
Ни огня, ни чёрной хаты…
Глушь и снег… Навстречу мне
Только вёрсты полосаты
Попадаются одне.
Или о том же самом, но чуть позднее:
В поле чистом серебрится
Снег волнистый и рябой.
Светит месяц, тройка мчится
По дроге столбовой.
Пой: в часы дорожной скуки,
На дороге, в тьме ночной
Сладки мне родные звуки
Звонкой песни удалой.
Пой, ямщик! Я молча, жадно
Буду слушать голос твой.
Месяц ясный светит хладно,
Грустен ветра дальный вой.
Ох, как много мы потеряли, странствуя ныне в автомобилях, самолетах и поездах: мы лишились главного, что составляло основное очарование и в то же время дарило серьезные испытания во время путешествий прошлых эпох — прямой и непосредственный контакт с живой природой во всех ее проявлениях, в том числе и губительных для человека. Вспомним «Бесов» Пушкина, в которых гениально воссоздана мистическая и тяжкая ипостась русских дорог:

Титульный лист рукописи поэмы «Кавказский пленник»
Мчатся тучи, вьются тучи;
Невидимкою луна
Освещает снег летучий;
Мутно небо, ночь мутна.
Еду, еду в чистом поле;
Колокольчик дин-дин-дин…
Страшно, страшно поневоле
Средь неведомых равнин!..
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
В дороге действительно могло происходить и происходило всякое: от мелких неприятностей до встречи с разбойниками или чумой. Вот маленькая зарисовка из письма поэта В. П. Зубову 1 декабря 1826 г.: «Я… выехал 5—6 дней тому назад из моей проклятой деревушки на перекладной, из-за отвратительных дорог. Псковские ямщики не нашли ничего лучшего, как опрокинуть меня, у меня помят бок, болит грудь, и я не могу дышать; от бешенства я играю и проигрываю… жду, чтобы мне стало хоть немного лучше, дабы пуститься дальше на почтовых».

Кибитки, коляски, сани, кареты, пошевни, возки, дрожки, линейки, дормезы, телеги, верховых лошадей и бог знает что еще использовал во время своих странствий Пушкин.
Представим себе, сколько времени приходилось ему проводить в тряске по бесконечным русским дорогам, и поймем, что дорожные думы и переживания поэта — неотъемлемая часть его жизни и творческих исканий. А сами дороги поэт знал намного лучше других. В седьмой главе «Евгения Онегина» он даже мечтал, что
Лет чрез пятьсот… дороги, верно,
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды…
Однако реальность того времени, «с колеями и рвами отеческой земли», была совсем другой:
Теперь у нас дороги плохи,
Мосты забытые гниют,
На станциях клопы да блохи
Заснуть минуты не дают;
Трактиров нет. В избе холодной
Высокопарный, но голодный
Для вида прейскурант висит
И тщетный дразнит аппетит…

Послушаем, что писал Пушкин о русских дорогах в своем «Путешествии из Москвы в Петербург» (эти слова звучат актуально и для наших дней): «Вообще дороги в России (благодаря пространству) хороши и были бы еще лучше, если бы губернаторы менее об них заботились… Лет 40 тому назад один воевода, вместо рвов, поделал парапеты, так что дороги сделались ящиками для грязи. Летом дороги прекрасны; но весной и осенью путешественники принуждены ездить по пашням и полям, потому что экипажи вязнут и тонут на большой дороге, между тем как пешеходы, гуляя по парапетам, благословляют память мудрого воеводы. Таких воевод на Руси весьма довольно».
Радовала поэта лишь зимняя езда по снегам России:
Зато зимы порой холодной
Езда приятна и легка.
Как стих без мысли в песне модной —
Дорога зимняя гладка.
Автомедоны наши бойки,
Неутомимы наши тройки,
И версты, теша праздный вздор,
В глазах мелькают как забор.
Именно после этих строк приближающийся к Москве вместе со своим героем Онегиным Пушкин написал всем известные с детства слова, которые ярче всего отражают его странническую судьбу:
Как часто в горестной разлуке,
В моей блуждающей судьбе,
Москва, я думал о тебе!
Поэт-скиталец, блуждающий по России, даже простую, скрипучую телегу представил как образ времени в своем шедевре «Телега жизни», где скорость движения этого народного вида транспорта он олицетворил с периодами жизни человека:
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка;
Ямщик лихой, седое время,
Везёт, не слезет с облучка…
Катит по-прежнему телега:
Под вечер мы привыкли к ней
И дремля едем до ночлега,
А время гонит лошадей.

Как же много гениальных творений родились у Пушкина в дороге, и неописуемо жаль, что ему, проехавшему «от западных морей до самых врат восточных» по территории Российской империи, так и не суждено было увидеть дальние страны, где его талант, несомненно, заблистал бы новыми красками.
Если же взглянуть на карту пушкинских путешествий, то самыми крайними точками окажутся: на севере Петербург и Кронштадт, на юге — Карс и Арзрум, на западе — Измаил, Тульчин и Псков, а на востоке — Оренбург и Бердская слобода.
Сенека как-то сказал, что человек должен первые 30 лет учиться, вторые — путешествовать, а третьи — рассказывать о своей жизни, учить молодых и творить. В письме к Плинию он красноречиво писал: «Ты не странствуешь, не тревожишь себя переменою мест. Ведь метания — признак большой души… Я думаю, что первое доказательство спокойствия духа — способность жить оседло и оставаться самим собой». Как удивительно, что русская поэзия подарила нам намного больше поэтов «с метаниями», не «оседлых» и не «спокойных духом», чем «не странствовавших» и не тревоживших себя «переменой мест». К числу подвижников странствий (не важно — вольных или невольных) можно без преувеличений отнести и Грибоедова, и Пушкина, и Лермонтова, и Бунина, и Гумилева, и Бальмонта, и Волошина, чьи души питались новыми жизненными соками именно в дороге, в пути, на перекрестках параллелей и меридианов, пусть даже для некоторых из них эти параллели и меридианы вообще не убегали за русские границы.
Пост №3: Побег на войну. В Георгиевске
В прошлый раз мы остановились на том, что 24 мая 1829 г. Пушкин добрался на своем пути до Георгиевска. И вот как он описал увиденное им в дороге:
«До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине. В Новочеркасске нашел я графа Пушкина, ехавшего также в Тифлис, и мы согласились путешествовать вместе.
Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности; показываются птицы, неведомые в наших лесах; орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественника…»

Художник К. П. Брюллов. 1838 г.
В этом отрывке поэт упомянул графа Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина, своего старого знакомого, который за близость к декабристам переводился из гвардии на Кавказ в Тифлисский полк и составил Пушкину добрую компанию, тем более приятную, что граф следовал к месту назначения на бричке, полной всяческих припасов и представлявшей собой «род укрепленного местечка». Друзья путешествовали вместе больше двух недель, вплоть до прибытия в Тифлис.
С поэтом в степи на пути к Георгиевску успела произойти и одна забавная история, когда он встретил в дороге калмыков:
«Калмыки располагаются около станционных хат. У кибиток их пасутся их уродливые, косматые кони, знакомые вам по прекрасным рисункам Орловского.
На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Всё семейство собиралось завтракать; котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» — «***». — «Сколько тебе лет?» — «Десять и восемь». — «Что ты шьешь?» — «Портка». — «Кому?» — «Себя». — Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеи».

И неудивительно, что эта, казалось бы, незначительная история стала поводом для написания Пушкиным в Георгиевске 27 мая стихотворения «Калмычке» — одного из первых его нового кавказского цикла, навеянного дорогой.
Прощай, любезная калмычка!
Чуть-чуть, на зло моих затей,
Меня похвальная привычка
Не увлекла среди степей
Вслед за кибиткою твоей.
Твои глаза конечно узки,
И плосок нос, и лоб широк,
Ты не лепечешь по-французски,
Ты шелком не сжимаешь ног…
Что нужды? — Ровно полчаса,
Пока коней мне запрягали,
Мне ум и сердце занимали
Твой взор и дикая краса.
Друзья! не всё ль одно и то же:
Забыться праздною душой
В блестящей зале, в модной ложе,
Или в кибитке кочевой?
Полный этими впечатлениями и воспоминаниями о своей жизни на Кавказе девять лет тому назад, Пушкин и написал в итоге стихотворение, в котором звучит тема прежней любви, вспыхнувшей в нем вновь: «Мне грустно и легко — печаль моя светла, / Печаль моя полна тобою»… В тот же день в Георгиевске Пушкин сделал черновые наброски своего известного стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла», хотя и до Грузии еще было далеко, и первые строки гениального творения звучали еще совсем по-другому: «Всё тихо, на Кавказ идёт ночная мгла, / Восходят звёзды надо мною…» И вот что любопытно: как всегда, толчком для поэтического взлета стал конкретный момент в жизни Пушкина, связанный с тем, что 27 мая он ненадолго съездил из Георгиевска на Горячие Воды. «Здесь я нашел большую перемену, — отметил Пушкин, описав благоустроенный бульвар, чистенькие дорожки, зеленые лавочки, цветники. — Мне было жаль их прежнего, дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною А. Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами и, наконец, исчез во мраке…»

А теперь, пока Пушкин удаляется все дальше и дальше от Москвы, вернемся к истокам путешествия поэта в Арзрум. Почему оно началось именно весной 1829 г. и куда именно ехал поэт? Чтобы понять это, следует напомнить, что Пушкин только в сентябре 1826 г., лишь за два с половиной года до своего побега на Кавказ, почувствовал себя почти свободным человеком после долгого «заточения» в Михайловском.
8 сентября 1826 г. у поэта состоялась первая и на много лет единственная встреча с императором Николаем I. Судьба поэта висела на волоске — неверные слова или дерзость могли привести его даже не в Михайловское, а намного дальше.
Но все обошлось. Как рассказывал позднее сам император: «Я впервые увидел Пушкина… после коронации, в Москве, когда его привезли ко мне из его заточения… “Что вы бы сделали, если бы 14 декабря были в Петербурге?” — спросил я его между прочим. “Был бы в рядах мятежников”, — отвечал он, не запинаясь. Когда потом я спрашивал его: переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать впредь иначе, если я пущу его на волю, он очень долго колебался и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием сделаться иным».

Итогом разговора стала договоренность, что Пушкину, как сообщал ему шеф жандармов и начальник Третьего отделения императорской канцелярии генерал А. Х. Бенкендорф, «предоставляется совершенная и полная свобода», в том числе в «употреблении отличных способностей» для «воспитания юношества», что поэт может приезжать в столицы, но «предварительно испрашивая разрешения письмом» (это касалось и других его поездок), а «государь император сам будет и первым ценителем произведений и цензором» Пушкина. Прощение было получено, и поэт ощутил наконец «прелести свободы», правда, под бдительным начальственным надзором, который не мог не усложнять его жизнь.
Так, отправляясь в Петербург в апреле 1827 г., он испросил на это разрешение у императора и получил от него положительный ответ с уверенностью, что «данное русским дворянином государю честное слово: вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано». Однако столицы не вдохновляли поэта, прошло совсем немного времени, а страсть Пушкина к путешествиям проснулась в нем с новой силой. Ему было мало «недалеких разъездов» по Центральной России, его душа снова рвалась в «дальние дали» и неведомые страны.

Конечно, на страсть и тягу Пушкина к путешествиям не могло не влиять то, что многие его друзья и соратники успели уже посетить различные страны и не раз рассказывали ему об увиденном. Так, П. Я.Чаадаев, старший товарищ и наставник поэта, послуживший одним из главных прототипов Евгения Онегина, успел с 1823 г. около трех лет пропутешествовать по Европе, посетив «мировые столицы» Лондон, Париж, Рим, а также Милан, Флоренцию, Венецию, Берн, Женеву, Дрезден и Карлсбад. И он мог вслед за Гёте сказать: «Кто хорошо видел Италию, и особенно Рим, тот никогда больше не будет совсем несчастным».
Чаадаев в ходе путешествий смог насколько возможно расширить свои представления о «Божьем мире» и устройстве жизни разных народов, и этот опыт не мог не подействовать магически на впечатлительного Пушкина.
Добавим к этому «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина, увидевшего Европу еще в конце XVIII века; участие в первом кругосветном путешествии русских кораблей (1803–1806) Ф. И. Толстого, прозванного Американцем, высаженного за неповиновение на Алеутских островах и добиравшегося через Сибирь в Россию два года; странствия по Европе многих боевых участников Наполеоновских войн, рассказывавших о своей миссии поэту, а также кругосветное плавание (1822–1824) Д. И. Завалишина, в том числе к берегам Русской Америки под флагом Российско-американской компании.

Некоторую обиду у Пушкина вызывало и то, что многие его сослуживцы по Коллегии иностранных дел, куда поэт был приписан в 1817 г. вместе с А. С. Грибоедовым и В. К. Кюхельбекером, успели уже послужить на ниве зарубежной дипломатии. Не будем пока говорить о самом Грибоедове, который еще в 1819–1821 гг. прожил в Персии около трех лет, упомянем только два славных имени в истории русской поэзии — Константин Батюшков и Федор Тютчев. Первый из них, участник Отечественной войны 1812 г., друг Пушкина, дошел с русской армией до Парижа и сумел посетить Польшу, Пруссию, Силезию, Чехию, Францию, Англию, Швецию и Финляндию («Все видел, все узнал и что ж? из-за морей // Ни лучше, ни умней // Под кров домашний воротился…» — писал он о своих странствиях). Пережив «три войны, все на коне и в мире на большой дороге», измученный болезнями К. Н. Батюшков перевелся на дипломатическую службу и в 1819 г. прибыл в Неаполь, где был причислен к неаполитанской миссии в качестве сверхштатного секретаря при русском посланнике графе Г. О. Штакольберге. Вскоре он переселился на остров Искью близ Неаполя, а впоследствии долго лечился в Германии.

Ф. И. Тютчев, окончив Московский университет, с 1822 г. начал служить в Министерстве иностранных дел. Родственные связи дали ему возможность занять место при русской дипломатической миссии в Мюнхене. Место было скромным, сверх штата, лишь в 1828 г. поэта повысили до младшего секретаря, но по роду своей службы он часто посещал Францию, Италию, Австрию, а впоследствии долго служил в Турине. В целом в Мюнхене и Турине он пребывал с 1822 по 1839 г., лишь изредка приезжая на Родину в отпуск, и, конечно, богатый опыт путешественника не мог не отразиться на творчестве великого поэта, в том числе и на осмыслении им «с далекого расстояния» России.
Упомянем, что по дипломатической части служил в те годы Ф. С. Хомяков, брат А. С. Хомякова, заменивший Грибоедова на месте секретаря по иностранной части при генерале Ф. И. Паскевиче в Тифлисе, а также родной брат будущей жены Пушкина Дмитрий Гончаров (1808—1860), посетивший после смерти Грибоедова Персию в составе русской миссии. Знакомый Пушкина Ф. Ф. Вигель еще в 1805 г. в составе посольства Головкина отправился в Китай, хотя и не был допущен в Пекин, а лицейский товарищ поэта Ф. Ф. Матюшкин участвовал в полярной экспедиции в поисках северного пути в Китай, и именно ему Пушкин посвятил восторженные строки:
Сидишь ли ты в кругу своих друзей,
Чужих небес любовник беспокойный?
Иль снова ты проходишь тропик знойный
И вечный лед полуночных морей?

Рисунок А. С. Пушкина. 1829 г.
И вот в середине апреля 1828 г., лишь стало известно о начале новой русско-турецкой войны, Пушкин обращается к императору с просьбой вместе с П. А. Вяземским «участвовать в начинающихся против турок военных действиях», но получает отказ с отпиской, что в армии «все места заняты». Подоплекой отказа стало, в том числе, мнение великого князя Константина Павловича, который писал Бенкендорфу: «Вы говорите, что писатель Пушкин и князь Вяземский просят о дозволении следовать за Главной императорской квартирой. Поверьте мне, любезный генерал, что в виду прежнего их поведения, как бы они ни старались высказать теперь преданность службе его величества, они не принадлежат к числу тех, на кого можно бы было в чем-либо положиться…»
Ответ Бенкендорфа поэт получил 20 апреля, а 25 апреля Полномочным министром российской миссии в Персии был назначен Грибоедов, приехавший в Петербург с Туркманчайским миром всего лишь за месяц с небольшим до этого. Получив отказ в поездке на войну, поэт от огорчения сильно захворал, впав «в болезненное отчаяние… сон и аппетит оставили его, желчь сильно разлилась в нем, и он опасно занемог», как вспоминал навещавший Пушкина сотрудник Третьего отделения А. А. Ивановский.
Конечно, рассказы Грибоедова не могли не повлиять на желание Пушкина отправиться именно на Восток, где вершилась судьба многих народов, где в новых баталиях ковалась слава русского оружия. Пушкин, как и в 1821 г. во время греческого восстания (вспомним фактически отдавшего свою жизнь за свободу Греции, заболевшего и умершего там в апреле 1824 г. Байрона), хотел пойти добровольцем на освободительную войну, но император решил по-другому, сообщив, что «воспользуется первым случаем, чтобы употребить отличные… дарования» Пушкина «в пользу отечества».
И вот что весьма занимательно: в эти дни, а именно 18 апреля, на квартире у В. А. Жуковского встретились сам хозяин, Пушкин, И. А. Крылов, П. А. Вяземский и Грибоедов, которые договорились вместе поехать в Париж, а может, и посетить Лондон. Вяземский писал жене на следующий день: «Вчера были мы у Жуковского и сговорились пуститься на этот европейский набег: Пушкин, Крылов, Грибоедов и я. Мы можем показываться в городах, как жирафы… не шутка видеть четырех русских литераторов… Приехав домой, издали бы мы свои путевые записки…» 21 апреля Пушкин снова обращается к Бенкендорфу, «сожалея, что желания» поехать на войну «не могли быть исполнены», и тут же просит о новой поездке: «Так как следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже, что, может быть, впоследствии мне не удастся. Если Ваше превосходительство соизволите мне испросить от государя сие драгоценное дозволение, то вы мне сделаете новое, истинное благодеяние».
Из этих слов видно, как сильно хотел Пушкин увидеть Европу, ведь чтобы добраться до Парижа, нужно было проехать несколько стран. Лучше всего о страсти поэта воочию увидеть далекие страны рассказала в своих записках А. О. Смирнова-Россет, с которой Пушкин часто встречался в салоне вдовы историка Е. А. Карамзиной. Вот как она передала весьма красноречивые для нашего повествования слова поэта: «Я желал бы видеть Константинополь, Рим и Иерусалим. Какую можно бы написать поэму об этих трех городах, но надо их увидеть, чтобы о них говорить. Увидеть Босфор, Святую Софию, посидеть в оливковом саду, увидеть Мертвое море, Иордан! Какой чудесный сон!»
«Затем он говорил о Риме сперва идолопоклонническом, потом христианском, — продолжала Смирнова-Россет, — говорил об Иерусалиме, причем я заметила, что он был взволнован. Глаза его приняли выражение, которого я не видала ни у кого, кроме него, и то редко. Когда он испытывает внутренний восторг, у него появляется особенное серьезное выражение: он мыслит. Я думаю, что Пушкин готовит для нас еще много неожиданного. Несмотря на веселое обращение, иногда почти легкомысленное, несмотря на иронические речи, он умеет глубоко чувствовать. Я думаю, что он серьезно верующий, но он про это никогда не говорит. Глинка рассказал мне, что он раз застал его с Евангелием в руках, причем Пушкин сказал ему: “Вот единственная книга в мире; в ней все есть”.
Я сказала Пушкину: “Уверяют, что вы неверующий”. Он расхохотался и сказал, пожимая плечами: “Значит, они меня считают совершенным кретином”».

Художник Г. Г. Чернецов. 1823 г.
Заметим, что из трех великих городов, выделенных Пушкиным, Иерусалим и Константинополь — это жемчужины Востока, Рим был когда-то столицей империи, простиравшейся на три континента — Европу, Африку и Азию, а Библия вообще самый выдающийся памятник восточной культуры. И как жаль, что поездка по Европе самых лучших поэтов России так и не состоялась, она могла бы стать одним из самых выдающимся событий в истории русской литературы и, конечно, пополнила бы ее сокровища. Вяземский вскоре с горечью констатировал: «Пушкин с горя просился в Париж: ему отвечали, что, как русский дворянин, имеет он право ехать за границу, но что государю будет это неприятно». Грибоедов же 6 июня отправился в Персию, откуда ему не суждено было вернуться.
Проходит всего лишь несколько месяцев, и Пушкин, у которого возникли серьезные неприятности с поэмой «Гавриилиада», снова бредит Востоком. В письме Вяземскому 1 сентября 1828 г. он пишет: «Ты зовешь меня в Пензу, а того гляди, что я поеду далее, // Прямо, прямо на восток…» Пушкин воспроизводит здесь строку из стихотворения В. А. Жуковского с показательным названием «Путешественник» (1809), посвященное Востоку и являющееся вольным переводом стихотворения Шиллера с тем же названием. В этот период за поэтом усиливается полицейский надзор: еще в августе по Положению Правительствующего Сената, утвержденного императором, за поэтом устанавливалось строгое «секретное наблюдение». При любой поездке начальству той губернии, куда ехал Пушкин, приказывалось взять его под «секретный надзор». И конечно, чувствовавший все это поэт не мог не желать того, чтобы вырваться из-под присмотра и совершить наконец тот самый побег, который он «давно замыслил». И как ни странно, ему это вскоре все-таки удалось!..

Ведь 4 марта поэт получил подорожную «на проезд от Петербурга до Тифлиса и обратно», подписанную санкт-петербургским почт-директором К. Я. Булгаковым, минуя Третье отделение и нарушая при этом установленный порядок.
Поэта ждало весьма длительное странствие: почтовый тракт от Петербурга до Тифлиса охватывал 107 станций и 2670 верст.
Куда же все-таки ехал Пушкин? Вопрос этот совсем не праздный, ведь не случайно же П. А. Вяземский, прекрасно знавший и Грибоедова, и Пушкина, сообщал в своих письмах и дневниках того периода, что Пушкин отправлялся куда-то «дальше», «на Восток». В предисловии к «Путешествию в Арзрум» сам автор вот так объяснил свой поступок: «В 1829 году отправился я на Кавказские воды. В таком близком расстоянии от Тифлиса мне захотелось туда съездить для свидания с братом и с некоторыми из моих приятелей. Приехав в Тифлис, я уже никого из них не нашел. Армия выступила в поход. Желание видеть войну и сторону мало известную побудило меня просить у е. с. графа Паскевича-Эриванского позволение приехать в Армию. Таким образом видел я блистательный поход, увенчанный взятием Арзрума».
Однако что-то здесь концы с концами не сходятся, ведь поэт еще в Санкт-Петербурге получил, можно сказать, «по блату», благодаря своему знакомству с почт-директором А. Я. Булгаковым, подорожную сразу до Тифлиса, а не до Кавказских вод. Позволим себе высказать предположение, которое, конечно, следует еще подтвердить и доказать, что во время своих встреч в Петербурге Пушкин и Грибоедов могли договориться о том, что Грибоедов, имея полномочия по приему в состав своего посольства новых сотрудников, в случае приезда Пушкина в Тифлис попытается принять его на службу или просто возьмет с собой в Персию. Для Пушкина, как сотрудника Коллегии иностранных дел, которого никуда не отпускало начальство, такой поворот в судьбе мог быть весьма привлекательным, особо учитывая его желание воочию увидеть Персию и постоянные неувязки в тот период с устройством им своей личной жизни (вспомним хотя бы о готовности поэта уехать в Китай в долгосрочную экспедицию).
Пушкину было хорошо известно, что Грибоедов как российский посланник в Персии должен был длительное время находиться именно в Тифлисе, отправляясь оттуда в Персию и возвращаясь обратно (напомним, что, уехав из Петербурга в конце июля 1828 г., Грибоедов отправился в Персию лишь 6 октября, а из Тегерана в Тавриз он планировал вернуться как раз в конце января — начале февраля 1829 г., когда и произошла трагедия). И Пушкин, отправляясь на Кавказ из Петербурга в начале марта 1829 г., как раз и мог рассчитывать на то, что он застанет Грибоедова в Тифлисе. А само ужасное известие о гибели поэта-дипломата дошло до Пушкина уже в Москве около 20 марта (1 апреля), что не могло не внести коррективы в его планы. Ведь поэт, перестав торопиться, пробыл в Москве до 2 (14) мая, причем он отправился сначала именно в Орел к генералу Ермолову, с которым Грибоедов служил долгие годы.
В Москве поэт обсуждал тегеранскую трагедию со многими своими знакомыми и друзьями, в том числе с сестрами Ушаковыми, о чем может свидетельствовать очень выразительный портрет Грибоедова, который Пушкин нарисовал позднее в альбоме Ел. Н. Ушаковой. Примечательно, что поэт изобразил Грибоедова именно в персидской шапке. (В последний раз Пушкин нарисовал образ Грибоедова в своих рукописях в мае 1833 г.).
Пушкин не скрывал от друзей, что он собирается на Кавказ, и эта новость не могла не вызывать и в Петербурге, и в Москве кривотолки, во-первых, о каком-то мифическом плане Пушкина бежать через турецкое побережье за границу, во-вторых, об опасности такого путешествия, а в-третьих, о бросающейся в глаза схожести судьбы поэта с судьбой Грибоедова. В. А. Ушаков, например, писал: «В прошедшем году (т. е. в апреле 1829 г.) я встретился в театре с одним из первоклассных наших поэтов и узнал из его разговоров, что он намерен отправиться в Грузию. “О боже мой, — сказал я горестно, — не говорите мне о поездке в Грузию. Этот край может назваться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова”. — “Так что же? — отвечал поэт. — Ведь Грибоедов сделал свое. Он уже написал “Горе от ума”». А в письме московского почт-директора А. Я. Булгакова к брату от 21 марта 1829 г. говорилось о той же самой аналогии: «Он <Пушкин> едет в армию Паскевича узнать ужасы войны, послужить волонтером, может, и воспеть это все.
“Ах, не ездите, — сказала ему Катя, — там убили Грибоедова”. — “Будьте покойны, сударыня, — неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичев? Будет и одного”».
Убегая на Кавказ, Пушкин не думал об опасностях своего пути:
Я ехал в дальние края;
Не шумных… жаждал я,
Искал не злата, не честей
В пыли средь копий и мечей.
Поэт, помимо предположительных договоренностей с Грибоедовым, мог рассчитывать на благосклонность к своей неустроенной судьбе и военного начальства на Кавказе, а именно И. Ф. Паскевича, который был женат на двоюродной сестре Грибоедова и по службе очень сблизился с ним в 1827—1828 гг. Напомним, что Пушкин, окончив Царскосельский лицей и будучи в 1829 г. коллежским секретарем (чин 10-го класса), мог претендовать на службу офицером (штабс-капитан в пехоте, штабс-ротмистр в кавалерии, подпоручик гвардии). И хотя поэт понимал, что даже Главнокомандующий на Кавказе Паскевич не посмеет взять его в ряды армии, но на помощь его он мог надеяться, что и произошло позднее, ведь именно Паскевич разрешил Пушкину прибыть в армию и стать свидетелем ратных дел. Суть побега поэта и заключалась в том, что, не получив разрешение императора, он не мог не принять участие в событиях русско-турецкой войны и уехал на Кавказ, ожидая милости грядущих дней.
Поэт не мог не чувствовать витавшие и над ним порывы «роковой» судьбы. И как это часто бывало в его жизни, он сам смело шел навстречу этим веяниям, проявляя почти безрассудный героизм и стремясь к выполнению задачи, сформулированной им самим еще в марте 1821 г.: «Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа…» Начнем с того, что, фактически убегая из столиц якобы только для «свидания с братом и некоторыми из моих приятелей», поэт не мог не понимать, что его ждут серьезные неприятности.

Конечно, этот побег выглядел довольно странно. О планируемом отъезде поэта знали очень и очень многие, подорожная ему, хотя и с нарушениями, была выписана, Пушкин, приехав в Москву 14 (26) марта, уехал из нее только в ночь на 2 (14) мая.
Получается, что недреманное око жандармского надзора почему-то выпустило из поля зрения поэта, и не специально ли Пушкину было дозволено все-таки отправиться на Кавказ, чтобы он мог воспеть впоследствии победы русского оружия?
«Узнав случайно, что г. Пушкин выехал из С.-Петербурга по подорожной, выданной ему… на основании свидетельства частного пристава Моллера» (а это стало известно в III Отделении еще 5 (17) марта), Бенкендорф 22 марта (3 апреля) распорядился о продолжении за Пушкиным «секретного наблюдения» в местах следования. И, конечно, начальству было хорошо известно, что Пушкин более чем на полтора месяца задержался в Москве. Показательно, что уже 12 (24) мая в Тифлисе генерал И. Ф. Паскевич довел до сведения военного губернатора Грузии С. С. Стрекалова, что направляющийся на Кавказ Пушкин должен состоять под секретным надзором. При этом сам Пушкин прибыл в Тифлис только 27 мая (8 июня).
Получается, что побег как бы был, но ему не очень-то препятствовали сверху. А самое удивительное, что Бенкендорф, не сообщавший о самовольном отъезде Пушкина императору четыре месяца, только 20 июля (1 августа) подал Николаю I записку со странным вопросом: «Надо его спросить, кто ему дозволил отправиться в Эрзерум…» Государь потребовал в этом разобраться. А в это время Пушкин уже выезжал из того самого Эрзерума обратно домой… Дело, о котором мечтал поэт, дело в его судьбе уже было сделано и оставило неизгладимый след в его жизни…
Пост №4. Военно-Грузинская дорога — путь на Кавказ
Продолжая свое путешествие, 28 мая 1829 г. Пушкин и его спутники выехали из Георгиевска и в тот же день достигли станицы Екатериноградской, или Екатеринограда, где им до 30 мая пришлось дожидаться конвоя, который из-за возможных нападений горцев должен был сопровождать всех, кто следовал далее по Военно-Грузинской дороге до Владикавказа. Вот как красочно описал поэт дальнейшее приключение:

«С Екатеринограда начинается военная Грузинская дорога; почтовый тракт прекращается. Нанимают лошадей до Владикавказа. Дается конвой казачий и пехотный и одна пушка. Почта отправляется два раза в неделю, и приезжие к ней присоединяются: это называется оказией. Мы дожидались недолго. Почта пришла на другой день, и на третье утро в девять часов мы были готовы отправиться в путь. На сборном месте соединился весь караван, состоявший из пятисот человек или около. Пробили в барабан. Мы тронулись. Впереди поехала пушка, окруженная пехотными солдатами. За нею потянулись коляски, брички, кибитки солдаток, переезжающих из одной крепости в другую; за ними заскрыпел обоз двухколесных ароб. По сторонам бежали конские табуны и стада волов. Около них скакали нагайские проводники в бурках и с арканами. Всё это сначала мне очень нравилось, но скоро надоело. Пушка ехала шагом, фитиль курился, и солдаты раскуривали им свои трубки. Медленность нашего похода (в первый день мы прошли только пятнадцать верст), несносная жара, недостаток припасов, беспокойные ночлеги, наконец беспрерывный скрып нагайских ароб выводили меня из терпения. Татаре тщеславятся этим скрыпом, говоря, что они разъезжаются как честные люди, не имеющие нужды укрываться. На сей раз приятнее было бы мне путешествовать не в столь почтенном обществе. Дорога довольно однообразная: равнина, по сторонам холмы. На краю неба вершины Кавказа, каждый день являющиеся выше и выше. Крепости, достаточные для здешнего края, со рвом, который каждый из нас перепрыгнул бы в старину не разбегаясь, с заржавыми пушками, не стрелявшими со времен графа Гудовича, с обрушенным валом, по которому бродит гарнизон куриц и гусей. В крепостях несколько лачужек, где с трудом можно достать десяток яиц и кислого молока».
Переход до Владикавказа через горы Большой Кабарды длился в таких сложных условиях четыре дня. Измученный медленным движением Пушкин то и дело пытался найти для себя что-либо интересное, вникая во все, что происходило вокруг. Поэта поразило место погребения нескольких тысяч погибших от чумы и минарет Татартуб, оставшийся на месте когда-то шумевшего там селения:
«Первое замечательное место есть крепость Минарет. Приближаясь к ней, наш караван ехал по прелестной долине, между курганами, обросшими липой и чинаром. Это могилы нескольких тысяч умерших чумою. Пестрелись цветы, порожденные зараженным пеплом. Справа сиял снежный Кавказ; впереди возвышалась огромная, лесистая гора; за нею находилась крепость. Кругом ее видны следы разоренного аула, называвшегося Татартубом и бывшего некогда главным в Большой Кабарде. Легкий одинокий минарет свидетельствует о бытии исчезнувшего селения. Он стройно возвышается между грудами камней, на берегу иссохшего потока. Внутренняя лестница еще не обрушилась. Я взобрался по ней на площадку, с которой уже не раздается голос муллы. Там нашел я несколько неизвестных имен, нацарапанных на кирпичах славолюбивыми путешественниками.
Дорога наша сделалась живописна. Горы тянулись над нами. На их вершинах ползали чуть видные стада и казались насекомыми. Мы различили и пастуха, быть может, русского, некогда взятого в плен и состаревшегося в неволе. Мы встретили еще курганы, еще развалины. Два, три надгробных памятника стояло на краю дороги. Там, по обычаю черкесов, похоронены их наездники. Татарская надпись, изображение шашки, танга, иссеченные на камне, оставлены хищным внукам в память хищного предка».

Пушкин забыл упомянуть, что, поднявшись на минарет с Мусиным-Пушкиным, он оставил на его стене и свое имя, как некий материальный след собственного присутствия на Востоке. Постепенно в его дневниковых записях усиливается восточный колорит, и становится заметнее знание автором истории этих мест (многое говорит, например, упоминание поэтом графа генерал-фельдмаршала Ивана Васильевича Гудовича (1741—1820), гремевшего совсем недавно на Кавказе). Описывая в дальнейшем быт и нравы кавказских народов, Пушкин проявляет явную прозорливость, когда пишет, к примеру, о черкесах, которые очень долго выступали противниками усиления России на Кавказе:
«Черкесы нас ненавидят. Мы вытеснили их из привольных пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены. Они час от часу далее углубляются в горы и оттуда направляют свои набеги. Дружба мирных черкесов ненадежна: они всегда готовы помочь буйным своим единоплеменникам. Дух дикого их рыцарства заметно упал… Почти нет никакого способа их усмирить, пока их не обезоружат, как обезоружили крымских татар, что чрезвычайно трудно исполнить, по причине господствующих между ими наследственных распрей и мщения крови. Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели лепетать… Что делать с таковым народом?
Должно однако ж надеяться, что приобретение восточного края Черного моря, отрезав черкесов от торговли с Турцией, принудит их с нами сблизиться. Влияние роскоши может благоприятствовать их укрощению: самовар был бы важным нововведением. Есть средство более сильное, более нравственное, более сообразное с просвещением нашего века: проповедание Евангелия».

Как видим, Пушкин видел выход из создавшегося положения и в разоружении горцев, и в прекращении их связи с Османской империей, и, главное, в привнесении в их жизнь «примет цивилизованности» вплоть до проповеди Евангелия. Еще 24 сентября 1820 г. в письме к брату поэт писал: «Дикие черкесы напуганы; древняя дерзость их исчезает. Дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная сторона, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасною торговлею, не будет нам преградою в будущих войнах». Поэт прекрасно разбирался в попытках прогрессивного преобразования кавказских территорий, имевших место в начале XIX века. Ему через посредство Грибоедова, знатока Кавказа и Востока, могли быть известны следующие сочинения: «Мнение адмирала Мордвинова о способах, коими России удобнее можно привязать к себе постепенно кавказских жителей» и записка В. Ф. Тимковского о «Киргизской орде». И естественно, что Пушкин хорошо понимал то благотворное влияние, которое христианское миссионерство могло оказать и оказало в итоге на народы Кавказа.

«Путешествие в Арзрум» вообще прекрасно продемонстрировало ту тягу к Востоку, которая сквозной нитью проходит через все творчество поэта. Откуда же появилась у Пушкина эта тяга и весьма серьезные познания восточного мира? Отметим сразу, что творческие поиски поэта, по сути, соответствовали резко возросшему всеобщему интересу к Востоку в то время. Пушкин не только внимательно следил долгие годы за всеми литературными новинками, касавшимися восточных стран, переводов персидской и иной поэзии, он неоднократно бывал также в петербургских и московских театрах, где тогда были очень популярны оперы и балеты на восточные темы.
Первоначальный интерес поэта к Востоку, без сомнения, пробудился в связи с его «африканскими корнями»: прадед поэта, Абрам Петрович Ганнибал, был выходцем из Северной Эфиопии и принадлежал к знатному роду. Позднее Пушкин неоднократно обращался к теме Африки и своего прадеда в произведениях «К Языкову», «Как жениться задумал царский арап», «Моя родословная», «Арап Петра Великого».
Поэт, которого друзья в шутку называли «бес арабский», а сам он себя называл «потомком негров безобразным», имел огромный интерес к Родине своего прадеда, сочувствовал судьбе «моей братьи негров», желая их скорого «освобождения от рабства нестерпимого», и неудивительно, что он мечтал когда-нибудь увидеть Африку:
Под небом Африки моей
Вздыхать о сумрачной России,
Где я страдал, где я любил,
Где сердце я похоронил…

Очень важно подчеркнуть, что, зная родословную своего «африканского» предка, Пушкин воспринимал свои корни и как мусульманские, хотя он прекрасно знал, что Петр I обратил «арапа» Ганнибала в православную веру и что в Эфиопии было широко распространено христианство. Об этом свидетельствует факт наличия в пушкинских архивных бумагах анонимной биографии рода Ганнибала, где указывается, что отец Абрама Ганнибала «по магометанскому обычаю имел очень много жен, в числе около тридцати»…
В лицее, по свидетельству многих, Пушкин особенно много внимания уделял изучению истории и философии, в том числе древней. В рецензии на второй том «Истории русского народа» Н. А. Полевого Пушкин позднее писал: «…В сей-то священной стихии исчез и обновился мир. История древняя есть история Египта, Персии, Греции, Рима. История новейшая есть история христианства…» Во время обучения в лицее Пушкина лекции по истории там читал профессор И. К. Кайданов, автор учебника «Основания всеобщей политической истории», который рассказывал лицеистам и о Персии, «первом великом государстве на свете», и об учении Зороастра (Заратуштры), и об Аравии, и о Мухаммеде и созданной им религии — исламе. Эти лекции и самостоятельные занятия пробудили у лицеистов стойкое увлечение Востоком, которое выразилось в составленном ими под руководством В. К. Кюхельбекера объемном «Словаре» с выписками по самым различным вопросам истории, философии и литературы. Пушкин долго еще помнил этот словарь, в котором встречаются и восточные авторы Саади, Зороастр:
Златые дни! Уроки и забавы,
И черный стол, и бунты вечеров,
И наш словарь, и плески мирной славы,
И критики лицейских мудрецов.
Еще в 1824 г. Кюхельбекер писал в статье «О направлении нашей поэзии»: «При основательнейших познаниях и большем, нежели теперь, трудолюбии наших писателей Россия по самому своему географическому положению могла бы присвоить себе все сокровища ума Европы и Азии — Фердуоси, Гафис, Саади, Джами ждут русский читателей». Пушкин, к примеру, прекрасно знал перевод стихотворения «Завещание» Саади, и, по мнению литературоведов, оно послужило одним из творческих толчков к написанию им знаменитого «Памятника» с теми же самыми идеями: «Душа в заветной лире мой прах переживет». А в качестве эпиграфа к своему «Бахчисарайскому фонтану» поэт выбрал слова Саади из его поэмы «Бустан»: «Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уж нет, другие странствуют далече». Эти же строки поэт повторил позже и в «Евгении Онегине»:
Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал…
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал.


Позднее, в 1828 г., в стихотворении «В прохладе сладостной фонтанов…» Пушкин воспел последователей поэта Саади, «тешивших ханов стихов гремучим жемчугом», а самого Саади возвел на Олимп поэзии, назвав Персию «чудной стороной»:
Но ни один волшебник милый,
Владетель умственных даров,
Не вымышлял с такою силой,
Так хитро сказок и стихов,
Как прозорливый и крылатый
Поэт той чудной стороны,
Где мужи грозны и косматы,
А жены гуриям равны.
В 1829 г. в черновом варианте упоминавшегося нами ранее шедевра «На холмах Грузии лежит ночная мгла…» поэт еще раз вернулся к словам Саади в своей блистательной поэтической манере:
Прошли за днями дни. Сокрылось много лет,
Где вы, бесценные созданья?
Иные далеко, иных уж в мире нет —
Со мной одни воспоминанья.

Обучаясь в лицее, Пушкин мог быть свидетелем въезда в Царское Село персидского посольства во главе с Мирзой Абул Хасан-ханом в 1814 г. и, так же, как его младший современник князь А. Д. Салтыков, восхититься великолепной процессией персов в ярких одеждах с двумя слонами и множеством лошадей и захотеть увидеть, хотя бы когда-нибудь, удивительный восточный мир. «Это странное видение произвело на меня сильное впечатление и породило желание видеть Восток, и особенно Персию», — писал тогда Салтыков. Пушкин не мог также не читать модных в то время журналов, где то и дело появлялись статьи о Персии и восточных странах. К примеру, в «Вестнике Европы», где поэт дебютировал в 1814 г., в марте 1815 г. были опубликованы статьи «О народах, обитающих в Персии» и «О нынешнем шахе персидском». Во второй из них с отрывками из стихотворений шаха рассказывалось о том самом Фетх-Али-шахе, который через 15 лет сыграет роковую роль в тегеранской трагедии, приведшей к гибели Грибоедова.
Уже в поэме «Руслан и Людмила» чувствуется сильное влияние на Пушкина восточной поэзии, в частности, иранского эпоса Фирдоуси «Шах-наме», который отдельными эпизодами вошел в «Повесть о Еруслане Лазаревиче», которую внимательно изучал Пушкин. В этой пушкинской поэме произошло слияние элементов русского народного эпоса с элементами восточных сюжетов, ведь поэт, к примеру, сам признавался, что
…благо мне не надо
Описывать волшебный дом;
Уже давно Шехерезада
Меня предупредила в том.
А в «Бахчисарайском фонтане» Пушкин прекрасно передал жизненные идеалы, религиозные и моральные представления людей Востока, которые особенно ярко выразили в прошлые века великие персидские поэты, говорившие о предпочтении земного блаженства райскому. В так называемой татарской песне из этой поэмы Пушкин прямо признал, что земные радости блаженней даже паломничества в Мекку и геройской гибели:
Дарует небо человеку
Замену слез и частых бед:
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет.
Блажен, кто славный брег Дуная
Своею смертью освятит:
К нему навстречу дева рая
С улыбкой страстной полетит.
Но тот блаженней, о Зарема,
Кто, мир и негу возлюбя,
Как розу, в тишине гарема
Лелеет, милая, тебя.

Любопытно, что три недели, проведенные Пушкиным в августе — сентябре 1820 г. в Гурзуфе, маленькой татарской деревне в Крыму, поэт считал «счастливейшими минутами жизни своей». Поселившись там вместе с Раевскими на даче бывшего генерал-губернатора Новороссийского края герцога Ришелье, он нашел в библиотеке сочинения Байрона, которые раньше читал по-французски. Теперь же при помощи друга Николая Раевского он упорно изучал английский язык и прочел в подлиннике восточные поэмы Байрона: «Гяура», «Корсара», «Лару», «Абидосскую невесту», «Осаду Коринфа» и «Паризину». Эти поэмы не могли не повлиять на поэта, что чувствуется во многих его восточных произведениях. Вслед за Байроном Пушкин считал, что в увлечении Востоком поэт должен сохранять вкус и взор европейца. Он прямо признавался, что при написании «Бахчисарайского фонтана» «слог восточный» был для него «образцом, сколько возможно нам, благоразумным, холодным европейцам».

Дотошными исследователями творчества Пушкина установлено, что из 2000 наиболее часто употребляемых слов в текстах поэта слова «турок», «француз», «роза» встречаются 101 раз, прилагательное «турецкий» — 75 раз, слово «восток» — 44 раза, слова «кавказский» и «Русь» — 42 раза, а «гарем» — 41 раз.
Налицо явное увлечение поэта восточным колоритом. Существуют многочисленные свидетельства, что Пушкин несколько раз предпринимал попытки изучения турецкого, арабского, древнееврейского и других восточных языков, но далеко в этом не продвинулся. В его библиотеке хранилось множество книг, посвященных истории и культуре восточных стран, которыми он постоянно пользовался. Это относится и к «Истории Персии» Джона Малькольма, изданной в Париже в 1821 г.
Поэма «Бахчисарайский фонтан», которая просто изобиловала достоверными историческими сведениями из истории Крымского ханства, сразу обратила на себя внимание именно ее ориенталистскими мотивами. Поэта даже стали называть тогда в печати «нашим юным Саади».
В дальнейшем мы еще не раз обратимся к тем перипетиям в жизни Пушкина, которые привели его к «восточному вектору» и в творчестве, и в скитаниях.
Пост №5. От Владикавказа до Тифлиса
1 июня 1829 г. Пушкин после четырехдневного пути из Екатеринограда добрался до Владикавказа, как он писал, «прежнего Кап-кая, преддверия гор», ставшего ключевым местом соединения «Кавказской линии» с Закавказьем. Далее предстояло самое интересное и сложное — путь по Военно-Грузинской дороге (а она занимала в целом более 200 верст) до Тифлиса, путь опасный и удивительно красивый, который и сегодня поразит любого путешественника. Во Владикавказе пришлось два дня ждать новой оказии, и Пушкину удалось впервые за долгое время сделать свои дневниковые записи. Утоляя собственное любопытство, он отправился к осетинским аулам, окружавшим город, вновь изучать местный быт:
«Я посетил один из них и попал на похороны. Около сакли толпился народ… Мертвеца вынесли на бурке… положили его на арбу… Тело должно было быть похоронено в горах, верстах в тридцати от аула… Осетинцы самое бедное племя из народов, обитающих на Кавказе; женщины их прекрасны и, как слышно, очень благосклонны к путешественникам. У ворот крепости встретил я жену и дочь заключенного Осетинца. Они несли ему обед. Обе казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении обе потупили голову и закрылись своими изодранными чадрами».

Фрагмент памятника писателям во Владикавказе. Скульпторы С. Санакоев, М. Царикае
В дорогу до Тифлиса Пушкин отправился 3 июня, всего лишь за три дня до своего 30-летия, которое пришлось встретить в дороге, да еще в экстремальных условиях.
Уж не нагадал ли тем самым поэт самому себе тревожное и трагическое следующее десятилетие своей жизни?
А пока Пушкин наконец-то впервые увидел те самые чарующие красоты дикой природы Кавказа, которые дарит странникам Военно-Грузинская дорога. Ведь побывав ранее, в 1820 г., только на Кавказских Минеральных Водах, Пушкин очень жалел, что не увидел тогда Грузии и не смог расположить «сцену поэмы» «Кавказского пленника» «на берегах шумного Терека, на границах Грузии». Вот как он живописал теперь, в 1829 г., потрясшие его виды:

«Пушка оставила нас. Мы отправились с пехотой и казаками. Кавказ нас принял в свое святилище. Мы услышали глухой шум и увидели Терек, разливающийся по разным направлениям. Мы поехали по его левому берегу. Шумные волны его приводят в движение колеса низеньких осетинских мельниц, похожих на собачьи конуры. Чем далее углублялись мы в горы, тем уже становилось ущелие. Стесненный Терек с ревом бросает свои мутные волны чрез утесы, преграждающие ему путь. Ущелие извивается вдоль его течения. Каменные подошвы гор обточены его волнами. Я шел пешком и поминутно останавливался, пораженный мрачною прелестию природы. Погода была пасмурная; облака тяжело тянулись около черных вершин.
Не доходя до Ларса, я отстал от конвоя, засмотревшись на огромные скалы, между коими хлещет Терек с яростию неизъяснимой. Вдруг бежит ко мне солдат, крича издали: «Не останавливайтесь, В(аше) Б(лагородие), убьют». Это предостережение с непривычки показалось мне чрезвычайно странным. Дело в том, что Осетинские разбойники, безопасные в этом узком месте, стреляют через Терек в путешественников. Накануне нашего перехода они напали таким образом на Генерала Бековича, проскакавшего сквозь их выстрелы».
До Ларса, где пришлось заночевать, путники добрались все-таки без приключений и нападения. Пушкин попробовал там «в первый раз кахетинского вина из вонючего бурдюка» и нашел «измаранный список Кавказского пленника», который «перечел с большим удовольствием». На другой день поутру отправились дальше и вскоре вступили в знаменитое и неповторимое Дарьяльское ущелье, которое пробудило у поэта бурные чувства, оставшиеся на всю жизнь:
«В семи верстах от Ларса находится Дариальский пост. Ущелье носит то же имя. Скалы с обеих сторон стоят параллельными стенами. Здесь так узко, так узко, пишет один путешественник, что не только видишь, но, кажется, чувствуешь тесноту. Клочок неба как лента синеет над вашей головою. Ручьи, падающие с горной высоты мелкими и разбрызганными струями, напоминали мне похищение Ганимеда, странную картину Рембрандта. К тому же и ущелье освещено совершенно в его вкусе. В иных местах Терек подмывает самую подошву скал, и на дороге, в виде плотины, навалены каменья. Недалеко от поста мостик смело переброшен через реку. На нем стоишь как на мельнице. Мостик весь так и трясется, а Терек шумит, как колеса, движущие жернов. Против Дариала на крутой скале видны развалины крепости. Предание гласит, что в ней скрывалась какая-то Царица Дария, давшая имя свое ущелию: сказка. Дариал на древнем Персидском языке значит ворота. По свидетельству Плиния, Кавказские врата, ошибочно называемые Каспийскими, находились здесь. Ущелие замкнуто было настоящими воротами, деревянными, окованными железом…»

Как видим, Пушкин прекрасно знал историю, а Дарьяльское ущелье стало для него символом дальних странствий: не случайно же он, вернувшись с Кавказа, заказал художнику Никанору Чернецову картину с изображением ущелья, и она сопровождала его до самой смерти в 1837 г. в кабинете на Мойке, 12.
Далее на пути к селению Казбек, что находится у подошвы одноименной горы, Пушкин увидел над Тереком Троицкие ворота, «образованные в скале взрывом пороха», Бешеную Балку — «овраг, во время сильных дождей превращающийся в яростный поток», а в самом селении он подружился с фактическим хозяином селения М. Г. Казбеги (1805—1876), происходившим из семьи владетельных грузинских князей. Дальнейший путь уже не был для поэта таким захватывающим:

«Скоро притупляются впечатления. Едва прошли сутки, и уже рев Терека и его безобразные водопады, уже утесы и пропасти не привлекали моего внимания. Нетерпение доехать до Тифлиса исключительно овладело мною. Я столь же равнодушно ехал мимо Казбека, как некогда плыл мимо Чатырдага. Правда и то, что дождливая и туманная погода мешала мне видеть его снеговую груду, по выражению поэта, подпирающую небосклон».
Однако в размеренность путешествия ворвалась сама история. Пушкину стало известно, что на его пути может встретиться сын персидского наследного принца Аббас-Мирзы, внук Фетх-Али-шаха, Хосров-Мирза (1813—1875), который в сопровождении многих спутников направлялся в Санкт-Петербург с «искупительной миссией» извинений персидского двора за жестокое убийство в Тегеране 30 января 1829 г. министра-посланника А. С. Грибоедова и около 40 его сотрудников и охраны. Грибоедовская тема, с которой началось путешествие Пушкина в Арзрум, опять громко заявила о себе. И примечательно, что недалеко от Казбека вначале Пушкин встретил не самого принца Хосров-Мирзу, а известного поэта и ученого Фазиль-Хана, находившегося в составе миссии. Вот как Пушкин описал эту встречу:

Дарьяльское ущелье. Гравюра. XIX в.
«Ждали персидского принца. В некотором расстоянии от Казбека попались нам навстречу несколько колясок и затруднили узкую дорогу. Покамест экипажи разъезжались, конвойный офицер объявил нам, что он провожает придворного персидского поэта и, по моему желанию, представил меня Фазил-Хану. Я, с помощию переводчика, начал было высокопарное восточное приветствие; но как же мне стало совестно, когда Фазил-Хан отвечал на мою неуместную затейливость простою, умной учтивостию порядочного человека! «Он надеялся увидеть меня в Петербурге; он жалел, что знакомство наше будет непродолжительно и проч.» Со стыдом принужден я был оставить важно-шутливый тон и съехать на обыкновенные европейские фразы. Вот урок нашей русской насмешливости. Вперед не стану судить о человеке по его бараньей папахе и по крашеным ногтям».
О том, что эта встреча также навеяла Пушкину воспоминания о Грибоедове, свидетельствует хотя бы то, что в черновой редакции его очерка приводилась цитата из «Горя от ума», а одного из участников персидской миссии, камергера двора персидского шаха, позднее, осенью 1829 г., Пушкин нарисовал по памяти в том же альбоме Ел. Н. Ушаковой, где он запечатлел несколькими листами позднее самого Грибоедова в персидской шапке. А в своем наброске стихотворения, посвященного Фазиль-Хану, Пушкин совсем не случайно вспомнил любимых им так же, как и Грибоедовым, персидских поэтов Хафиза и Саади:

Благословен твой подвиг новый,
Твой путь на север наш суровый,
Где кратко царствует весна,
Но где Гафиза и Саади
Знакомы… имена.
Ты посетишь наш край полночный,
Оставь же след…
Цветы фантазии восточной
Рассыпь на северных снегах.
Любопытно, что Фазиль-Хан долго и скрытно хотел переселиться из Персии в Россию, выразив это желание еще в своем тайном обращении к российским властям во время поездки в Санкт-Петербург в 1829 г., и под конец жизни ему это все-таки удалось: он переселился в Тифлис, где был преподавателем восточных языков и где умер.
Следует особо отметить, что в описании встречи с «искупительной миссией» Пушкин больше внимания уделил поэту Фазиль-Хану, нежели самому принцу, которого поэт встретил на дороге в день своего рождения, 6 июня, и о котором в очерк вошли только такие строки:
«Тут я встретил Русского офицера, провожающего Персидского Принца. Вскоре услышал я звук колокольчиков, и целый ряд катаров (мулов), привязанных один к другому и навьюченных по-азиатски, потянулся по дороге. Я пошел пешком, не дождавшись лошадей; и в полверсте от Ананура, на повороте дороги, встретил Хозрев-Мирзу. Экипажи его стояли. Сам он выглянул из своей коляски и кивнул мне головою. Через несколько часов после нашей встречи на принца напали горцы. Услыша свист пуль, Хозрев выскочил из своей коляски, сел на лошадь и ускакал. Русские, бывшие при нем, удивились его смелости. Дело в том, что молодой Азиатец, не привыкший к коляске, видел в ней скорее западню, нежели убежище».

Монастырь Цминда-Самеба близ селения Казбеги. Фото: Сергей Дмитриевф
Скудость описания встречи с исторической фигурой Хосров-Мирзы можно объяснить тем, что, когда Пушкин в 1835 г. работал над «Путешествием», ему уже была хорошо известна довольно постыдная для властей предержащих история, связанная с тем, что слишком пышные многомесячные приемы принца в России и царскими властями, и аристократией резко контрастировали с замалчиванием героической судьбы Грибоедова и официальными обвинениями его в том, что он якобы сам виноват в разыгравшейся трагедии. Встретив миссию персидского принца, Пушкин также не знал, что в ее составе в качестве личного врача принца находился том самый Гаджи-Баба (Хаджи-Баба, Мирза-Баба), о котором он упомянул позднее в «Путешествии», рассказывая о прошлом Арзрума. Дело в том, что этот врач, посланный Аббас-Мирзой на обучение в Лондон, провел там 9 лет и стал прообразом главного героя двух романов английского писателя Дж. Мориера «Похождения Хаджи-Бабы из Исфагана» и «Мирза Хаджи-Баба Исфагани в Лондоне». Пушкин прекрасно знал эти романы, и, наверное, он бы сильно удивился, встретив наяву по пути в Тифлис легендарного литературного персонажа.

Кроме упоминания романов Дж. Мориера, в своем «Путешествии» Пушкин цитировал (причем на английском языке) в описании тифлисских бань известную поэму английского романтика Т. Мура «Лалла-Рук», которая была очень популярна в России. А в ряде мест его путевых записок можно заметить перекличку с также широко известными в России «Персидскими письмами» Монтескье. Пушкин при этом, как и Грибоедов ранее, переходил в описании увиденного им во время странствий от абстрактного романтизма к явному реализму, навеянному зримыми приметами восточного мира.
Об этом же свидетельствует и история написания поэтом стихотворения «Монастырь на Казбеке», которым Пушкин вдохновился неподалеку от подножия Казбека, где на горе Квенамта находится монастырь Цминда-Самеба (Святой Троицы). Совершая свой побег на Кавказ, Пушкин как будто бы бежал еще дальше — к «вольному» небу, «вожделенному» свету и «вечным лучам», а иначе — к Богу. Горный монастырь на Казбеке поэт отчетливо увидел в образе спасительного ковчега:
Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь над облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..
Путешествие в Арзрум было одним из самых тяжелых испытаний в жизни поэта, прежде всего потому, что его ждали трудности долгого и изнурительного пути то верхом, то пешком, бывало по 40—50 верст в день, а также опасности угодить под «горскую пулю» в любом месте, о чем рассказано на многих страницах «Путешествия».
В дороге поэту пришлось действительно показывать чудеса выносливости. Именно от Коби, где Пушкин попрощался со «своенравным» Тереком, начиналась самая тяжелая часть пути (Крестовый перевал и Гуд-гора), которую предстояло преодолеть в самых неблагоприятных условиях еще значительного снежного покрова и опасностей обвалов, которые, по словам Пушкина, именно в это время случались там довольно часто.

Мне выпало проехать Военно-Грузинскую дорогу 2 мая 2015 г., то есть на месяц раньше Пушкина по весеннему календарю, и я могу засвидетельствовать, что в это время покров снега в районе Крестового перевала достигал 2,5 метра. И хотя мы двигались на машине по сравнительно расчищенной дороге, все это с трудом можно назвать простой поездкой.
Вот как описал свою «снежную эпопею» сам Пушкин:
«Пост Коби находится у самой подошвы Крестовой горы, чрез которую предстоял нам переход. Мы тут остановились ночевать и стали думать, каким бы образом совершить сей ужасный подвиг: сесть ли, бросив экипажи, на казачьих лошадей или послать за Осетинскими волами? На всякий случай я написал от имени всего нашего каравана официальную просьбу к г. Ч(иляеву), начальствующему в здешней стороне, и мы легли спать в ожидании подвод».

В итоге Пушкин решился отправить «тяжелую Петербургскую коляску обратно во Владикавказ» и ехать верхом до Тифлиса. Мусин-Пушкин не последовал его примеру, а «предпочел впрячь целое стадо волов в свою бричку, нагруженную запасами всякого рода, и с торжеством переехать через снеговой хребет». Пушкин направился дальше с подполковником Н. Г. Огаревым, отвечавшим за здешние дороги, и вот как все это происходило:
«Дорога шла через обвал… Мы круто подымались выше и выше. Лошади наши вязли в рыхлом снегу, под которым шумели ручьи. Я с удивлением смотрел на дорогу и не понимал возможности езды на колесах.
В это время услышал я глухой грохот. «Это обвал», — сказал мне г. Ог(арев). Я оглянулся и увидел в стороне груду снега, которая осыпалась и медленно съезжала с крутизны. Малые обвалы здесь не редки. В прошлом году русский извозчик ехал по Крестовой горе; обвал оборвался: страшная глыба свалилась на его повозку; поглотила телегу, лошадь и мужика, перевалилась через дорогу и покатилась в пропасть с своею добычею. Мы достигли самой вершины горы. Здесь поставлен гранитный крест, старый памятник, обновленный Ермоловым. Здесь путешественники обыкновенно выходят из экипажей и идут пешком. Недавно проезжал какой-то иностранный консул: он так был слаб, что велел завязать себе глаза; его вели под руки, и когда сняли с него повязку, тогда он стал на колени, благодарил Бога и проч., что очень изумило проводников».
Путники добрались до вершины Крестовой горы (2395 метров над уровнем моря) — высшей точки перевала Главного Кавказского хребта. Название эта гора получила от установленного там креста, причем историки до сих пор спорят, когда же он появился здесь впервые: при грузинском царе Давиде Возобновителе, при Петре I или Екатерине II? Более вероятно, что при царе Давиде, но Пушкин прав, что этот крест был «обновлен» именно при Ермолове в 1824 г.

участник искупительной
миссии Хосров-Мирзы.
Художник К. К. Гампельн. 1829 г.
Любопытно, что одним из первых среди русских поэтов Крестовый перевал преодолел именно Грибоедов еще в октябре 1818 г., за десять с лишним лет до Пушкина, в еще более сложных условиях. Если Пушкин от Владикавказа до Тифлиса добирался 4,5 суток, то Грибоедов на сутки больше. Послушайте, как он описывал свои странствия в «Путевых записках», которые еще ждут своего внимательного прочтения и комментирования в силу их полного забвения в истории русской литературы:
«Ужасное положение Коби — ветер, снег кругом, вышина и пропасть. Идем все по косогору; узкая, скользкая дорога, с боку Терек; поминутно все падают, и все камни и снега, солнца не видать. Все вверх, часто проходим через быструю воду, верхом почти не можно, более пешком. Усталость, никакого селения… Наконец добираемся до Крестовой горы… От усталости падаю несколько раз. Подъем на Гуд-гору по косогору преузкому; пропасть неизмеримая с боку… Не знаю, как не падают в пропасть кибитка и наши дрожки».
Да, нелегки были пути и тропы великих русских поэтов, но именно они дарили им вдохновение и сюжеты новых произведений. Ведь по Военно-Грузинской дороге путешествовали… и Чацкий, и Онегин, и Печорин. В «Горе от ума» Чацкий вспоминал о своих странствиях:
…Я был в краях,
Где с гор верхов ком снега ветер скатит,
Вдруг глыба этот снег в паденьи все охватит,
С собой влечет, дробит, стирает камни в прах,
Гул, рокот, гром, вся в ужасе окрестность.
А вот странствия Онегина:
Он видит: Терек своенравный
Крутые роет берега;
Пред ним парит орел державный,
Стоит олень, склонив рога;
Верблюд лежит в тени утеса,
В лугах несется конь черкеса,
И вкруг кочующих шатров
Пасутся овцы калмыков,
Вдали — кавказские громады:
К ним путь открыт. Пробилась брань
За их естественную грань,
Чрез их опасные преграды;
Брега Арагвы и Куры
Узрели русские шатры.
И наконец выдержка из «Героя нашего времени»: «Гуд-гора курится, задувает сырой, холодный ветер, начинается мелкий дождь, потом валит снег…». Однако природа всегда милостива к странникам: погружая их в опасности и неудобства, она потом обязательно дарит им красоты и очарование. Так получилось и у Пушкина:
«Мгновенный переход от грозного дикого Кавказа к миловидной Грузии восхитителен. Воздух юга вдруг начинает повевать на путешественника. С высоты Гуд-горы открывается Кайшаурская долина с ее обитаемыми скалами, с ее садами, с ее светлой Арагвой, извивающейся, как серебряная лента, — и все это в уменьшенном виде, на дне трехверстной пропасти, по которой идет опасная дорога… Мы спускались в долину. Молодой месяц показался на ясном небе. Вечерний воздух был тих и тепел. Я ночевал на берегу Арагвы, в доме г. Ч(иляева).
На другой день я расстался с любезным хозяином и отправился далее. Здесь начинается Грузия. Светлые долины, орошаемые веселой Арагвою, сменили мрачные ущелия и грозный Терек. Вместо голых утесов я видел около себя зеленые горы и плодоносные деревья. Водопроводы доказывали присутствие образованности. Один из них поразил меня совершенством оптического обмана: вода, кажется, имеет свое течение по горе снизу вверх. В Пайсанауре остановился я для перемены лошадей».
И это происходило именно 6 июня (26 мая) 1829 г., в день 30-летия Пушкина! Вот такой неожиданный праздник выпал поэту: он отшагал в этот день больше 20 верст от Пасанаура до Ананура и дальше до самого Душета, где голодный и усталый ночевал на квартире городничего, майора Р. С. Ягулова:
«Я дошел до Ананура, не чувствуя усталости. Лошади мои не приходили.
Мне сказали, что до города Душета оставалось не более как десять верст, и я опять отправился пешком. Но я не знал, что дорога шла в гору. Эти десять верст стоили добрых двадцати. Наступил вечер; я шел вперед, подымаясь все выше и выше. С дороги сбиться было невозможно; но местами глинистая грязь, образуемая источниками, доходила мне до колена. Я совершенно утомился. Темнота увеличивалась. Я слышал вой и лай собак и радовался, воображая, что город недалеко.Но ошибался: лаяли собаки Грузинских пастухов, а выли шакалы, звери в той стороне обыкновенные. Я проклинал свое нетерпение, но делать былонечего. Наконец увидел я огни и около полуночи очутился у домов, осененных деревьями. Первый встречный вызвался провести меня к Городничему и потребовал за то с меня абаз».
Как писал Пушкин, у городничего ему была отведена комната и «принесен стакан вина». (Вот тебе и юбилей! Так скромно и с таким истощением сил поэт не встречал, пожалуй, ни один свой день рождения!):
«Я бросился на диван, надеясь после моего подвига заснуть богатырским сном: не тут-то было! блохи, которые гораздо опаснее шакалов, напали на меня и во всю ночь не дали мне покою. Поутру явился ко мне мой человек и объявил, что граф П(ушкин) благополучно переправился на волах через снеговые горы и прибыл в Душет. Нужно было мне торопиться!.. Я оставил Душет с приятной мыслию, что ночую в Тифлисе. Дорога была так же приятна и живописна, хотя редко видели мы следы народонаселения. В нескольких верстах от Гарцискала мы переправились через Куру по древнему мосту, памятнику римских походов, и крупной рысью, а иногда и вскачь, поехали к Тифлису, в котором неприметным образом и очутились часу в одиннадцатом вечера».
Теперь Пушкина ждали почти две недели отдыха, и можно было, хоть и с опозданием, отметить свой юбилей!
Пост №6. Чудеса Тифлиса
Прибыв в Тифлис на следующий день после дня своего 30-летия вместе с Мусиным-Пушкиным и еще одним попутчиком, Э. К. Шернвалем, Пушкин разместился в небольшой гостинице иностранца Матасси, единственной в городе, на улице, которая потом станет Пушкинской и где неподалеку разместится впоследствии сквер с памятником поэту. И путешественника, измучившегося долгим переходом, не могло не потянуть уже на следующее утро в баню, по дороге к которой Пушкин успел почувствовать дыхание пестрого города:
«Город показался мне многолюден. Азиатские строения и базар напомнили мне Кишинев. По узким и кривым улицам бежали ослы с перекидными корзинами; арбы, запряженные волами, перегорожали дорогу. Армяне, грузинцы, черкесы, персияне теснились на неправильной площади; между ими молодые русские чиновники разъезжали верхами на карабахских жеребцах».

А в бане поэта ждал сюрприз «женского дня»:
«При входе в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел в обширную комнату и что же увидел? Более пятидесяти женщин, молодых и старых, полуодетых и вовсе неодетых, сидя и стоя раздевались, одевались на лавках, расставленных около стен. Я остановился. «Пойдем, пойдем, — сказал мне хозяин, — сегодня вторник: женский день. Ничего, не беда». — «Конечно не беда, — отвечал я ему, — напротив».
Появление мужчин не произвело никакого впечатления. Они продолжали смеяться и разговаривать между собою… Персиянин ввел меня в бани: горячий, железо-серный источник лился в глубокую ванну, иссеченную в скале. Отроду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань».


Надпись с этими словами Пушкина до сих пор висит над Орбелиановской, или Пёстрой, баней Тифлиса, которая во время моего посещения Тбилиси в апреле 2013 г. находилась на ремонте, что заставило меня пойти в соседнюю, менее знаменитую баню, чтобы испытать те же чувства, что и поэт. А он вот такими словами описал свой «банный подвиг»:
«Гассан (так назывался безносый татарин) начал с того, что разложил меня на теплом каменном полу; после чего начал он ломать мне члены, вытягивать составы, бить меня сильно кулаком; я не чувствовал ни малейшей боли, но удивительное облегчение…После сего долго тер он меня шерстяною рукавицей и, сильно оплескав теплой водою, стал умывать намыленным полотняным пузырем. Ощущение неизъяснимое: горячее мыло обливает вас как воздух!: шерстяная рукавица и полотняный пузырь непременно должны быть приняты в русской бане: знатоки будут благодарны за таковое нововведение. После пузыря Гассан отпустил меня в ванну; тем и кончилась церемония».

Моя попытка совершить тот же «банный обряд» закончились в Тифлисе фиаско, о чем мне даже пришлось сознаться в таких вот стихах:
Я по пушкинским следам
Посетил Тифлисские бани,
Оказавшись на самой грани
Серы, жара и потной дани
Божеству здешних водных драм.
И меня банщик мылом мылил,
И я в серную ванну входил
Тихо, тихо — и вскоре застыл,
Ощущая удушливый пыл,
Оказавшийся мне не по силам.
Видно, Пушкин тогда был сильнее,
Потому что банный ритуал
Он на самый возвёл пьедестал,
И «роскошными» бани назвал,
Ничего не зная ценнее.
Да, непросто идти по следам
Тех, кто раньше тебя по свету
Пролетал горящей кометой,
Оставляя поэмы, сонеты
И приметы житейских драм.

Пушкин в Тифлисе, как всегда, был наблюдателен к приметам окружающего мира и местной истории. Видно, что он внимательно изучал еще перед поездкой исторические аспекты Грузии на переломе эпох:
«Грузия прибегнула под покровительство России в 1783 году, что не помешало славному Аге-Мохамеду взять и разорить Тифлис и 20 000 жителей увести в плен (1795 г.). Грузия перешла под скипетр императора Александра в 1802 г. Грузины народ воинственный. Они доказали свою храбрость под нашими знаменами. Их умственные способности ожидают большей образованности. Они вообще нрава веселого и общежительного. По праздникам мужчины пьют и гуляют по улицам. Черноглазые мальчики поют, прыгают и кувыркаются; женщины пляшут лезгинку.
Голос песен грузинских приятен. Мне перевели одну из них слово в слово; она, кажется, сложена в новейшее время; в ней есть какая-то восточная бессмыслица, имеющая свое поэтическое достоинство».

Известно, что Пушкину очень понравились грузинские песни, и он не раз обращался к ним потом за вдохновением, стараясь даже переводить их на русский язык. А грузинское винопитие вообще вызвало у него удивление и уважение:
«Грузины пьют — и не по-нашему, и удивительно крепки. Вина их не терпят вывоза и скоро портятся, но на месте они прекрасны. Кахетинское и карабахское стоят некоторых бургонских. Вино держат в маранах, огромных кувшинах, зарытых в землю. Их открывают с торжественными обрядами. Недавно русский драгун, тайно отрыв таковой кувшин, упал в него и утонул в кахетинском вине, как несчастный Кларенс в бочке малаги».


Как видим, в Тифлисе поэт попал в давно вожделенный им мир Востока. Получается, что судьба вновь и вновь как бы толкала Пушкина в «восточные объятья», ведь в свое первое долгое странствие с восточными мотивами Пушкин отправился еще за 9 лет до путешествия в Арзрум, в 1820 г., причем не по своей воле. За вольнолюбивые стихи и эпиграммы он был выслан тогда из Петербурга, хотя сама ссылка и была обставлена лишь как перевод поэта по службе — он был прикомандирован к канцелярии генерала И. Н. Инзова, попечителя над иностранными колонистами на юге России, впоследствии наместника Бессарабии.
Вспомним, как проходила «южная ссылка» поэта, чтобы лучше понять его настроения и впечатления, почерпнутые в Тифлисе. 5 мая 1820 г. Пушкину была выдана подорожная за № 2295: «…Показатель сего, Ведомства Государственной коллегии иностранных дел Коллежский секретарь Александр Пушкин, отправлен по надобностям службы к Главному попечителю колонистов Южного края России, г. Генерал-Лейтенанту Инзову…»
И, конечно, молодой ссыльный не мог знать, что суждено ему будет уехать из Петербурга на долгие 7 лет: он вернется в Москву из ссылки в Михайловском только 8 сентября 1826 г., а в Петербурге появится и вообще лишь 23 мая 1827 г. И увидит поэт за это время самые разные края: Кавказ (более двух месяцев лета 1820 г.), Крым (3 недели в августе–сентябре 1820 г.), Украину (лето и осень 1820 г., зима 1821 г., 1823 г.), Молдавию (многочисленные поездки 1820—1823 гг.). Больше всего времени поэт проведет в Кишиневе (в целом не менее полутора лет с 21 сентября 1820 г. по 2 июля 1823 г.) и Одессе (тринадцать месяцев — с 3 июля 1823 г. по 31 июля 1824 г.).

Напомним, что поэт находился в тех краях по долгу службы, хотя он и часто писал о себе как о вольном страннике: «Здесь, лирой северной пустыни оглашая, скитался я…» С бывшим храбрым боевым генералом Инзовым у него сложились прекрасные отношения, что очень помогало поэту по службе. По ходатайству генерала перед начальством Пушкину удалось перевестись из Кишинева в Одессу к новороссийскому и бессарабскому генерал-губернатору М. С. Воронцову. Однако через некоторое время с новым начальником у Пушкина испортились отношения, опальный поэт стал вести себя слишком дерзко и попросил отставки. В итоге все кончилось весьма печально: 11 июля 1824 г. в Одессе было получено предписание:
Пушкина «исключить из списка Министерства иностранных дел за дурное поведение» и выслать в Псковскую губернию, в село Михайловское, где его ждало более двух лет изоляции (с 9 августа 1824 г. по 4 сентября 1826 г.) лишь с кратковременной отлучкой в Псков.

Годы южной ссылки были одними из самых благодатных в жизни Пушкина, по сути, они сделали из него поэта, известного всей России. Достаточно сказать, что за эти годы им было создано больше 125 больших и малых произведений, в том числе «Песнь о вещем Олеге», первые главы «Евгения Онегина», а также ключевые для его творчества поэмы «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан» и «Цыганы». И совсем неудивительно, что в творчестве поэта засверкали совершенно новые мотивы и краски, связанные со сквозной и очень важной для него темой Востока.
Так уж получилось, что эта тема оказалась одной из центральных в творчестве трех великих поэтов «золотого века русской поэзии» — Грибоедова, Пушкина и Лермонтова.
А чего вообще следовало ожидать от молодого, романтически настроенного Пушкина, перед которым открылся неведомый ему ранее мир Востока, который он увидел и на Кавказе, и в Крыму, и в частичном, обрывочном виде в Бессарабии и на юге Украине? Все эти пограничные земли империи многие века находились в орбите и военного, и религиозного, и политического соперничества России с ее южными соседями. Реалии Востока были здесь просто на каждом шагу. Даже в Одессе поэт попадал в иной мир, когда
…За трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленный,
Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.

А в Крыму, в Гурзуфе, поэт поселил героя своей незаконченной сказки Мехмета, с весьма показательными характеристиками:
Недавно бедный музульман
В Юрзуфе жил с детьми, с женою;
Душевно почитал священный Алькоран —
И счастлив был своей судьбою…
Народы, языки, религии и обычаи — всё смешалось на южных просторах России, и поэт не мог не отражать в своих стихах этой удивительной пестроты:
Теснится средь толпы еврей сребролюбивый.
Под буркою казак, Кавказа властелин,
Болтливый грек и турок молчаливый,
И важный перс, и хитрый армянин…
А сколько чудес дарил новый мир дикой природы:
Забытый светом и молвою,
Далече от брегов Невы,
Теперь я вижу пред собою
Кавказа гордые главы.
Над их вершинами крутыми,
На скате каменных стремнин,
Питаюсь чувствами немыми
И чудной прелестью картин…
В письме к брату Пушкин писал: «Два месяца жил я на Кавказе… Жалею, мой друг, что ты со мною вместе не видел великолепную цепь этих гор; ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками разно-цветными и недвижными; жалею, что не всходил со мною на острый верх пятихолмного Бешту, Машука, Железной горы, Каменной и Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях».
Поэт глубже и глубже погружался в этот загадочный восточный мир и оставлял его яркие блёстки, в том числе об исламе и Коране («Его таинственная сила…// Слова святые начертила»), в своих стихотворных набросках:
В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран,
Внезапно ангел утешенья,
Влетев, принес мне талисман.
Пушкин действительно привез с юга сердоликовый перстень-печатку, ставший его знаменитым талисманом, но, к сожалению, впоследствии не сохранившийся:
Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
Позже поэт, мечтая и о странствиях, и о покое, и о военных подвигах, не раз вспоминал свой талисман:
В уединенье чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.

Уже в первых своих стихах, написанных на юге, поэт, назвавший себя «искателем новых впечатлений», «изгнанником неизвестным», «на скифских берегах переселенцем новым», воспевает свое бегство с Родины («Я вас бежал, отечески края…», «Мне моря сладкий шум милее»):
Шуми, шуми, послушное ветрило,
Волнуйся подо мной, угрюмый океан.
Лети, корабль, неси меня к пределам дальным
По грозной прихоти обманчивых морей,
Но только не к брегам печальным
Туманной родины моей…
И вот уже вскоре поэт, увидевший «лазурь чужих небес, полдневные края», «сады татар, селенья, города», «чуждые поля и рощи», «холмы Тавриды, край прелестный», может с гордостью написать:
Я видел Азии бесплодные пределы,
Кавказа дальний край, долины обгорелы,
Жилище дикое черкесских табунов,
Подкумка знойный брег, пустынные вершины,
Обвитые венцом летучим облаков,
И закубанские равнины!
Ужасный край чудес!..
Причем всё увиденное поэт воспринимал со страстью и любопытством. Он умел гениально чувствовать дух каждого края и его народа, неповторимо передавать красоты увиденных им пейзажей и природных мест. Говоря о горячности поэта, следует лишь упомянуть, что в 1821 г. в Молдавии Пушкин, очарованный цыганами, ушел в табор и странствовал с ним некоторое время:
Встречал я посреди степей
Над рубежами древних станов
Телеги мирные цыганов,
Смиренной вольности детей.
За их ленивыми толпами
В пустынях часто я бродил.
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями.

Фото: Сергей Дмитриев
А когда в том же году вспыхнуло восстание греков против османского ига, Пушкин настолько рьяно рвался им на помощь, как и многие другие добровольцы («увижу кровь, увижу праздник мести… и смерти гордой ожиданье», — писал он тогда), что в Москве даже прошел слух, будто он находится в армии восставших греков. Летом же 1824 г. в Одессе, находясь в тяжелом состоянии духа, поэт вообще замыслил «поэтический побег» из России за границу морем, в чем ему готовы были помочь Е. К. Воронцова и В. Ф. Вяземская. Пушкин признавался тогда, что хочется ему «взять тихонько трость и шляпу и поехать посмотреть на Константинополь». Однако чувство любви и привязанность к друзьям остановили поэта:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я.
В Кишиневе Пушкин сблизился с будущим популярным прозаиком А. В. Вельтманом. Они встретились снова лишь десять лет спустя, в 1831 г. в Москве, и как знаменательно, что поэт, прекрасно знавший творчество Вельтмана, успел тогда познакомиться с одним из самых известных романов писателя, показательно названным «Странник» (уж очень модным стало в ту бурную эпоху это слово, ведь произведения с такими названиями встречаются, пожалуй, у большинства русских поэтов того времени, в том числе у Пушкина и Грибоедова). Поэт неоднократно рвался куда-то в самые дальние дали, не в Европу даже, а в загадочные «отдаленные страны», в том числе, конечно, и восточные, хотел начать «вольный бег по вольному распутью моря». В 1823 г. он выразил это своеобразным гимном океану в стихотворении, обращенном к неизвестному моряку:
Дай руку — в нас сердца единой страстью полны.
Для неба дального, для отдаленных стран
Оставим берега Европы обветшалой;
Ищу стихий других, земли жилец усталый;
Приветствую тебя, свободный океан.
В этот период у поэта появилась страстная тяга к морским просторам и ко всему, что с ними связано: кораблю («Морей красавец окриленный! // Тебя зову — плыви, плыви…») и ветру («Ты ветер, утренним дыханьем // Счастливый парус напрягай…»). Позднее, находясь в ссылке в Михайловском, как бы предвидя, что ему не суждено уже будет увидеть море, Пушкин написал прощальную оду «К морю»:
Прощай свободная стихия!
В последний раз передо мной
Ты катишь волны голубые
И блещешь гордою красой…
Прощай же, море! Не забуду
Твоей торжественной красы
И долго, долго слышать буду
Твой гул в вечерние часы.
В леса, в пустыни молчаливы
Перенесу, тобою полн,
Твои скалы, твои заливы,
И блеск, и тень, и говор волн.
Восток манил и манил к себе поэта. В 1824 г. во «Втором послании цензору» он упомянул Омара де Гали, мусульманского халифа VII века, который, по преданию, сжег Александрийскую библиотеку. В 1826 г. в «Песнях о Стеньке Разине» появляется персидский мотив с легендарной плененной царевной:
…Грозен Стенька Разин,
Перед ним красная девица,
Полоненная персидская царевна.
Не глядит Стенька Разин на царевну,
А глядит на матушку на Волгу…
Как вскочил тут грозен Стенька Разин,
Подхватил персидскую царевну,
В волны бросил красную девицу,
Волге-матушке ею поклонился.
Именно в Михайловском, «в глуши, во мраке заточенья», поэт снова вернулся к теме своего побега, обращаясь к своему брату: «Благослови побег поэта…» Он объяснил свою цель побега и желания оказаться «под небом дальным», «в чуждой стороне», следующими строками:
Иду в чужбине прах отчизны
С дорожных отряхнуть одежд.
Поэт ещё долго мечтал о морских просторах, о бегстве в неведомые земли. По его словам, он «оставить был совсем готов // Неволю невских берегов» или отправиться в «чёрный отдалённый путь».
Тема Востока и восточных странствий была отнюдь не проходной и случайной в творчестве поэта, а именно стержневой, на которую нанизывались многие произведения автора. Если все их собрать вместе, то получился бы солидный том, занимающий по самым приблизительным подсчетам до седьмой части стихотворного наследия поэта. Не имея возможности анализировать все эти произведения, в которых восточная тема раскрывалась впрямую или косвенно, через призму истории, мифов, легенд или сказок, путевых зарисовок или наблюдений, переводов или интерпретаций, перечислим лишь основные из них, созданные поэтом в 1820—1829 гг., до своего второго путешествия на Кавказ: поэмы «Руслан и Людмила», «Кавказский пленник», «Гаврилиада», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы», стихотворения «Погасло дневное светило…», «Я видел Азии бесплодные пределы…», «Черная шаль», «Земля и море», «Война», «В.Л. Давыдову», «Кто видел край, где роскошью природы…», «К Овидию», «Недавно бедный музульман…», «Баратынскому», «Песнь о вещем Олеге», «Таврида», «Гречанке», «Адели», «Завидую тебе, питомец моря смелый…», «Из письма к Вигелю», «Кораблю», «К морю», «Фонтану Бахчисарайского дворца», «Виноград», «О дева-роза, я в оковах…», «Клеопатра», «Храни меня, мой талисман…», «Злато и булат», «Буря», «Соловей и роза», «Талисман», «Не пой, красавица, при мне…», «В прохладе сладостной фонтанов».
Особняком в этом ряду стоит несомненный шедевр Пушкина «Подражания Корану», написанный в сентябре–ноябре 1824 г. в Михайловском и Тригорском и ясно свидетельствующий о том, насколько хорошо и глубоко поэт знал не только текст, но и сам дух Корана и исламских традиций. «Я тружусь во славу Корана…» — откровенно писал он тогда брату из Тригорского. Суть своего замысла автор объяснил так: «…Многие нравственные истины изложены в Коране сильным и поэтическим образом. Здесь предлагается несколько вольных подражаний». А далее поэт кратко и ясно оценил стиль и особенности Корана: «…Какая смелая поэзия».

Пушкин познакомился с Кораном еще в лицейскую эпоху и потом неоднократно обращался к нему. И в Одессе, и в Михайловском поэт пользовался переводом Корана, сделанным М. И. Веревкиным и изданным под названием «Книга Аль-Коран, аравлянина Магомета…». Существуют подсчеты, что до 1/5 части «Подражаний» Пушкина почти буквально передают текст Веревкина, но с вольными интерпретациями поэта. Из «Подражаний» видно, что Пушкин просто очарован поэтикой Корана, следуя за стихами его различных сур. Поэт использовал в своем цикле, в частности, следующие суры: 2, 25, 33, 48, 59, 61, 73, 93.
Особый интерес у Пушкина вызывала личность самого Мухаммеда (Магомета, как он его называл). В начале XIX в. и в Европе, и в России все считали Магомета автором Корана. Пушкина же более всего увлекал сам факт того, что Магомет был поэтом. В не вошедшей в шестое стихотворение «Подражаний» строфе он прямо называл его поэтом:
Они твердили: пусть виденья
Толкует хитрый Магомет,
Они ума его творенья,
Его ль нам слушать, он поэт!
Жизнь Магомета, поэта-изгнанника, поначалу гонимого и не признанного, была созвучна с судьбой самого Пушкина, бывшего в то время в ссылке и обеспокоенного темой изгнания («Всегда гоним, теперь в изгнаньи // Влачу закованные дни»). Большинство стихов «Подражаний» фактически прослеживали жизненный путь пророка — от раннего периода его деятельности до обретения им власти духовного лидера, полководца и правителя. При этом поэт не просто повторял канву Корана, а вносил от себя в стихотворения новые мотивы и тексты в духе подлинника.
Пушкин прекрасно понимал особую роль России в евразийском пространстве и своими восточными произведениями оставил нам своеобразный наказ: понимать другие народы, ценить особенности их культуры, уважать религиозные различия и ни в коем случае не делать их поводом для межнациональной вражды.
Будучи знатоком истории, увлекаясь поэзией различных народов мира, поэт уже в 1825 г. пришел к выводу, который и сегодня следовало бы иметь в виду силам, которые хотят причесать все народы «под одну гребенку», не учитывая их вековые особенности: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу». Показав в «Арапе Петра Великого» (1827), что приобщение к передовой европейской культуре благотворно для людей разных национальностей, поэт мечтал об объединении народов Запада и Востока силой поэзии. В своем хрестоматийном стихотворении «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» он не случайно утверждал, что «и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык» рано или поздно приобщатся к его поэтическому слову.
Новое путешествие Пушкина на Кавказ и «далее на Восток» в 1829 г. только укрепило его стремление глубже понять приметы восточного мира, ну и, конечно, постараться отразить их в новых произведениях.
Пост №7. Тифлисские встречи
Оказавшись в июне 1829 г. в пестром и шумном Тифлисе, Пушкин не мог не проявить свою природную любознательность, иногда даже чрезмерную. То он неоднократно бродил по тифлисскому базару, и как говорили местные очевидцы, братался с некоторыми торговцами, особенно с армянами. То он специально изучал в лавках образцы местного оружия, к которому испытывал нескрываемую страсть. При этом он яркими художественными красками описывал увиденное:
«Тифлис находится на берегах Куры, в долине, окруженной каменистыми горами. Они укрывают его со всех сторон от ветров и, раскалясь на солнце, не нагревают, а кипятят недвижный воздух. Вот причина нестерпимых жаров, царствующих в Тифлисе, несмотря на то, что город находится только еще под 41-м градусом широты. Самое его название (Тбилис-калак) значит Жаркий город.
Большая часть города выстроена по-азиатски: дома низкие, кровли плоские. В северной части возвышаются дома европейской архитектуры, и около них начинают образоваться правильные площади. Базар разделяется на несколько рядов; лавки полны турецких и персидских товаров, довольно дешевых, если принять в рассуждение всеобщую дороговизну. Оружие тифлисское дорого ценится на всем Востоке. Граф Самойлов и В., прослывшие здесь богатырями, обыкновенно пробовали свои новые шашки, с одного маху перерубая надвое барана или отсекая голову быку».

Неизвестный художник
с инициалами Е. В.
С оригинала О. А. Кипренского.
1837 г.
Пушкина поразила пестрота народов, населяющих город, тяжелый климат, вызывавший нередко заболевания «горячкой» или малярией, особенности местной воды, которую многие просто заменяли вином:
«В Тифлисе главную часть народонаселения составляют армяне: в 1825 году было их здесь до 2500 семейств. Во время нынешних войн число их еще умножилось. Грузинских семейств считается до 1500. Русские не считают себя здешними жителями. Военные, повинуясь долгу, живут в Грузии, потому что так им велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином асессорским, толико вожделенным. Те и другие смотрят на Грузию как на изгнание.
Климат тифлисский, сказывают, нездоров. Здешние горячки ужасны; их лечат Меркурием, коего употребление безвредно по причине жаров. Лекаря кормят им своих больных безо всякой совести. Генерал Сипягин, говорят, умер оттого, что его домовый лекарь, приехавший с ним из Петербурга, испугался приема, предлагаемого тамошними докторами, и не дал оного больному. Здешние лихорадки похожи на крымские и молдавские и лечатся одинаково.
Жители пьют курскую воду, мутную, но приятную. Во всех источниках и колодцах вода сильно отзывается серой. Впрочем, вино здесь в таком общем употреблении, что недостаток в воде был бы незаметен».

Тифлис оказался довольно дорогим городом, что поразило поэта больше всего, он ожидал встретить тут обратное, но пришлось приспосабливаться, как и многим российским чиновникам, оправлявшимся на Кавказ за «выслугой по службе»:
«В Тифлисе удивила меня дешевизна денег. Переехав на извозчике через две улицы и отпустив его через полчаса, я должен был заплатить два рубля серебром. Я сперва думал, что он хотел воспользоваться незнанием новоприезжего; но мне сказали, что цена точно такова. Всё прочее дорого в соразмерности.
Мы ездили в немецкую колонию и там обедали. Пили там делаемое пиво, вкусу очень неприятного, и заплатили очень дорого за очень плохой обед. В моем трактире кормили меня так же дорого и дурно.
Генерал Стрекалов, известный гастроном, позвал однажды меня отобедать; по несчастию, у него разносили кушанья по чинам, а за столом сидели английские офицеры в генеральских эполетах. Слуги так усердно меня обносили, что я встал из-за стола голодный. Черт побери тифлисского гастронома!»
Описав колорит восточного города, Пушкин особо отметил, что в течение почти двух недель он «познакомился с тамошним обществом», которое в честь гостя устроило однажды торжественный вечер в европейско-восточном стиле в одном из загородных садов на берегу реки Куры. И совершенно естественно, что поэт не мог не вспоминать в Тифлисе почти ежедневно о Грибоедове, о котором в этом городе действительно напоминало очень многое, ведь он уехал из него с молодой женой в Персию всего лишь восемь с половиной месяцев назад, а весть о смерти дипломата пришла в Тифлис и вообще всего лишь три с половиной месяца назад. Пересуды о тегеранской трагедии кипели еще в городе не понарошку.

Встречаться Пушкину пришлось со многими друзьями и знакомыми Грибоедова, которые не могли не рассказывать о нем гостю: с гражданским губернатором П. Д. Завилейским, соавтором Грибоедова в работе над очень важным «Проектом Российской Закавказской компании», с П. Н. Ахвердовой, воспитательницей жены Грибоедова Нины Чавчавадзе, с редактором «Тифлисских ведомостей» П. С. Санковским. По словам Пушкина, тот «рассказывал мне много любопытного о здешнем крае, о князе Цицианове, об А. П. Ермолове и проч. Санковский любит Грузию и предвидит для нее блестящую будущность».

Почему Пушкин не встретился тогда с самой вдовой Грибоедова, не совсем ясно; вероятнее всего, она болела после тяжкой вести о смерти мужа и смерти сына Александра или ее просто не было тогда в Тифлисе, в который она вернулась из Тавриза в марте того же года. Может быть, она была в эти дни в Цинандали, в имении своего отца, князя Александра Гарсевановича Чавчавадзе. Этот выдающийся грузинский поэт из знаменитого княжеского рода сделал и заметную военную карьеру: в 1817 г. в чине полковника он был переведен из Санкт-Петербурга в Нижегородский драгунский полк, стоявший в родной ему Кахетии, в местечке Карагач. Некоторое время он командовал этим полком, а в ходе русско-персидской войны 1826—1828 гг. руководил уланской бригадой и после занятия Эриванского ханства был назначен начальником Армянской области. Затем в войне с Турцией он командовал Баязетским отрядом, но к началу 1829 г. из-за придирок Паскевича оставил свою должность и вернулся в Тифлис.

Грузинский исследователь И. Ениколопов в своей книге «Пушкин в Грузии» еще в 1966 г. высказал предположение, не подтвержденное пока достаточной суммой доказательств, что А. Чавчавадзе, выезжая по делам службы в Карагач, пригласил Пушкина в свое имение Цинандали, которое находилось неподалеку. И там поэт смог провести несколько дней, посетив при этом и Карагач, где находился лишь один эскадрон полка, ушедшего на турецкий фронт. Напомним, что в этом имении неоднократно бывал Грибоедов, в том числе в 1828 г. с женой Ниной сразу после свадьбы.

как-то «заброшенно и скучающе»
хранится в запаснике
Литературного музея Тбилиси.
Фото: Сергей Дмитриев
Посещал ли Пушкин замечательный винный край Кахетию, был ли он в Цинандали, встретился ли он там с Ниной Чавчавадзе — все это вопросы, требующие еще своего исследования. А молчание поэта в «Путешествии в Арзрум» о своей возможной поездке в Кахетию можно объяснить целым рядом причин, в том числе невозможностью упоминания в записках князя Чавчавадзе, обвиненного в 1832 г. в заговоре против царской власти.
Прежде чем продолжить дальнейшее описание «побега Пушкина» в Арзрум, мы не обойдемся без того, чтобы вкратце рассмотреть вопрос о взаимоотношениях «двух странников» русской поэзии Пушкина и Грибоедова, очень сильно повлиявших друг на друга не только в творческой сфере, но и в делах странствий. Начнем с совпадений, которые связали судьбы двух «первых поэтов» России того времени в тугой узел. Оба Александры Сергеевичи, оба родились в конце «славного» XVIII века, с разницей всего в четыре с половиной года, в одной и той же дворянской среде. Есть данные, что они были знакомы друг с другом еще в 1809—1810 гг. Как вспоминала в своих «рассказах бабушки», изданных в 1885 г., Е.П. Янькова, «виделись мы <с М. А. Ганнибал> еще у Грибоедовых… В 1809 или 1810 г. Пушкины жили где-то за Разгуляем, у Елохова моста, нанимали там просторный и поместительный дом… Я туда ездила со своими старшими девочками на танцевальные уроки, которые мы брали с Пушкиной-девочкой, с Грибоедовой (сестрою того, что в Персии потом убили)… Мальчик, Грибоедов, несколькими годами постарше его <Пушкина>, и другие его товарищи были всегда так чисто, хорошо одеты, а на этом <Пушкине> всегда было что-то и неопрятно, и сидело нескладно». Конечно, разница в возрасте двух подростков была тогда довольно существенна, но при следующей встрече оба начинающих поэта, хотя старшему из них уже удалось несколько лет прослужить гусаром, не могли не узнать друг друга лучше.

Дело в том, что летом 1817 г. Грибоедов и Пушкин почти одновременно поступили на службу в Коллегию иностранных дел, и по роду службы они, хотя и редко, но встречались. Как вспоминала об этих встречах актриса А. М. Колосова, Грибоедов и его друзья относились к Пушкину «как старшие к младшему: он дорожил их мнением и как бы гордился их приязнью. Понятно, что в их кругу Пушкин не занимал первого места и почти не имел голоса». А П. П. Каратыгин указывал, что
«никого не щадивший для красного словца, Пушкин никогда не затрагивал Грибоедова; встречаясь в обществе, они разменивались шутками, остротами, но не сходились столь коротко, как, по-видимому, должны были бы сойтись два одинаково талантливые, умные и образованные человека».

(Пушкин читает «Горе от ума»). Художник Н. Ге. 1875 г.
Не сойтись им помешала скитальческая судьба обоих поэтов: Грибоедов уехал на Кавказ и в Персию в августе 1818 г. почти на пять лет, а Пушкин в 1820 г. отправился в ссылку на срок более шести с половиной лет. Так, два молодых поэта оказываются в самом расцвете сил в долгих странствиях, причем не совсем по своей воле. Вдали друг от друга они внимательно следят за творчеством каждого.
В декабре 1823 г. Пушкин спрашивал из Одессы Вяземского: «Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чедаева» (позднее Грибоедов, чтобы избежать ассоциаций с П. Я. Чаадаевым, сменил фамилию главного героя с Чадский на Чацкий). В этот период Пушкин нарисовал в своей тетради первый портрет Грибоедова, а всего их в портретной «рукописной» галерее поэта насчитывается, по разным интерпретациям, от 3 до 6, что само по себе говорит о многом.

В январе 1825 г. И. И. Пущин привез в Михайловское «Горе от ума», и, несмотря на отдельные первоначальные критические замечания, Пушкин воспринял это произведение с особым вниманием, признав в нем выдающееся творение Грибоедова, а самого поэта назвав «истинным талантом». Сначала 28 января он писал П. А. Вяземскому:
«Читал я Чацкого — много ума и смешного в стихах, но во всей комедии ни плана, ни мысли главной, ни истины. Чацкий совсем не умный человек — но Грибоедов очень умен». Однако через несколько дней, успев лучше обдумать пьесу, он сообщал А. А. Бестужеву: «Слушал Чацкого, но только один раз, и не с тем вниманием, коего он достоин… Драматического писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным. Следст. не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова. Цель его — характеры и резкая картина нравов. В этом отношении Фамусов и Скалозуб превосходны. …Вот черты истинно комического гения…
В комедии “Горе от ума” кто умное действ.<ующее> лицо? ответ: Грибоедов. А знаешь ли, что такое Чацкий? Пылкий, благородный и добрый малый, проведший несколько времени с очень умным человеком (именно с Грибоедовым) и напитавшийся его мыслями, остротами и сатирическими замечаниями. Все, что говорит он, — очень умно… О стихах я не говорю, половина — должна войти в пословицу». При этом поэт просил своего адресата: «Покажи это Грибоедову».

Комедия Грибоедова оказала сильное влияние на многие произведения Пушкина, особенно на «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина». Не вдаваясь в подробности и не упоминая скрытые параллели и созвучия, укажем лишь на то, что в «Онегине» поэт трижды прямо ссылается на «Горе от ума»: в шестой главе, когда он воспроизводит строку Грибоедова: «И вот общественное мненье!»; в эпиграфе к седьмой главе со словами из комедии: «Гоненье на Москву! что значит видеть свет! // Где ж лучше? // Где нас нет»; и в восьмой главе, где Онегин, «убив на поединке друга», «ничем заняться не умел» и отправился в путешествие:
Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Не многих добровольный крест).
Оставил он свое селенье,
Лесов и нив уединенье…
И начал странствия без цели,
Доступный чувству одному;
И путешествия ему,
Как всё на свете, надоели;
Он возвратился и попал,
Как Чацкий, с корабля на бал.

Здесь Пушкин не только следует за Грибоедовым, который писал о чувствах, «Которые во мне ни даль не охладила, // Ни развлечения, ни перемена мест», но и прямо сравнивает Онегина с Чацким, загадывая нам очередную загадку: а где же странствовал главный герой пушкинского поэтического воображения? Там же, где и Чацкий? Вспомним, что Чацкий появляется зимним утром 1819 г. в московском доме Фамусова после того, как провел три года где-то в далеких краях и проехав на лошадях больше семисот верст, видимо, из Петербурга в Москву. Очевидно, что в Россию Чацкий прибыл водным путем, вероятнее всего, с лечебных вод (в Германии?), в комедии упоминается также, что он побывал во Франции. Получается, что и Онегин, отсутствовавший также три года, тоже «на корабле» вернулся в Петербург из Европы. Однако не все так просто.

Рисунок А. С. Пушкина. 1828 г.
Дело в том, что в 1827 г. Пушкин хотел в своих черновиках ввести путешествие Онегина в седьмую главу романа в стихах, написав, что его герой, «убив неопытного друга», решился «в кибитку сесть» и отправился, скорее всего, за границу:
Ямщик удалый засвистал,
И наш Онегин поскакал
Искать отраду жизни скучной —
По отдалённым сторонам,
Куда не зная точно сам.
Потом, в 1830 г., поэт решил посвятить путешествиям Онегина отдельную восьмую главу, и весьма важно, что тогда в плане всех глав он назвал её «Странствие». Однако в 1831 г. Пушкин изменил свое намерение, вынув «Странствие» из системы глав и поместив отрывки из «Путешествия Онегина» в качестве отдельного приложения к своему роману. Сам поэт позднее чистосердечно признался в предисловии к этим отрывкам, что «он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России», причем «по причинам, важным для него, а не для публики». При этом, печатая отрывки, автор не включил в них следующую ключевую строфу, в которой прямо говорилось о европейских странствиях Онегина:
Наскуча или слыть Мельмотом
Иль маской щеголять иной,
Проснулся раз он патриотом
Дождливой, скучною порой.
Россия, господа, мгновенно
Ему понравилась отменно,
И решено. Уж он влюблен,
Уж Русью только бредит он,
Уж он Европу ненавидит
С её политикой сухой,
С её развратной суетой.
Онегин едет; он увидит
Святую Русь: её поля,
Пустыни, грады и моря.
Вот так и получилось, что в своем романе Пушкин вообще не поместил прямых свидетельств о заграничном вояже Онегина. Владимир Набоков в своих обстоятельных «Комментариях к «Евгению Онегину» Александра Пушкина» был совершенно прав, когда писал, что «в окончательном тексте» романа «мы не находим ничего такого, что давало бы веские основания исключить возможность странствий Онегина (после того, как он побывал на черноморских берегах…) по Западной Европе, откуда он и возвращается в Россию». Однако, согласно исследованиям того же Набокова, получается, что, выехав из Петербурга вскоре после дуэли летом 1821 г., Онегин направился в Москву, Нижний, Астрахань и на Кавказ, осенью 1823 г. он попал в Крым, навестил Пушкина в Одессе и в августе 1824 г. возвратился в Петербург, «закончив круг своего русского путешествия, — никакой возможности того, что побывал и за границей, не остается».
Нам следует только добавить очень важное замечание. Фактически Онегин странствует только путями самого автора — по России, Кавказу, Крыму, Украине:
Тоска, тоска! спешит Евгений
Скорее далее: теперь
Мелькают мельком, будто тени,
Пред ним Валдай, Торжок и Тверь…
Он скачет сонный. Кони мчатся
То по горам, то вдоль реки,
Мелькают вёрсты, ямщики
Поют, и свищут, и бранятся.
Пыль вьётся. Вот Евгений мой
В Москве проснулся на Тверской.

Жизнь не подарила Пушкину других больших странствий, хотя в период написания романа он несколько раз надеялся на свои путешествия за границу. Поэтому-то глава «Путешествие Онегина» и осталась незаконченной: поэт не хотел писать о том, чего сам не видел. Нам же важно еще раз подчеркнуть, что и в своем главном поэтическом творении Пушкин отдал весомую дань как теме путешествий (с частично восточным колоритом), так и памяти своего товарища по писательскому цеху — Александру Грибоедову.
А совпадения в судьбах двух великих поэтов продолжались. Прогремело восстание декабристов, и оба поэта оказались под подозрением в причастности к заговору. Грибоедов был арестован в крепости Грозной 22 января 1826 г., а выпущен с «очистительным аттестатом» лишь 2 июня того же года по милости императора Николая I, с которым имел через четыре дня важную беседу. А Пушкина вызвал из ссылки в Михайловском и после беседы с глазу на глаз 8 сентября 1826 г. также простил Николай I.
Однако встретиться двум «освобожденным» поэтам удалось только после 14 марта 1828 г., когда Грибоедов вернулся в Петербург из Персии с Туркманчайским договором и остановился в той же гостинице Демута на Конюшенной, где жил в те дни и Пушкин.

Портрет неизвестного художника
И какой же малый срок отпустила судьба для общения гениев русской поэзии, прежде чем они расстались, — всего лишь до начала июня, когда новый посланник России в Персии отбыл на Восток уже навсегда. По сведениям современников и исследователей, в этот период Пушкин и Грибоедов общались довольно близко и встречались не менее семи раз, не считая не зафиксированных никем встреч, которые могли происходить, к примеру, в той же гостинице Демута. При этом поэты встречались на обедах у П. П. Свиньина и М. Ю. Вильегорского, в салоне графа И. С. Лаваля, а в доме Жуковского вместе с Вяземским и Крыловым обсуждали план своей совместной поездки в Лондон и Париж. Как вспоминал об одной из встреч К. А. Полевой, «Грибоедов явился вместе с Пушкиным, который уважал его как нельзя больше и за несколько дней сказал мне о нем: это один из самых умных людей России. Любопытно послушать его… В этот вечер Грибоедов читал наизусть отрывок из своей трагедии “Грузинская ночь”».
Тяжелые предчувствия тогда просто витали в воздухе, и не случайно ли 30 апреля во время ночной встречи в гостях у Пушкина тот предложил друзьям-поэтам (Грибоедова на этой встрече не было) для обсуждения событие, свидетелем которого поэт был в Одессе несколько лет назад: «…приплытие Черным морем к одесскому берегу тела Константинопольского православного патриарха Григория V, убитого турецкой чернью»? (Как иногда могут совпадать события, разделенные и по времени, и по месту действия!)
25 мая Пушкин и Грибоедов участвовали в устроенном Вяземским пикнике в Кронштадте, куда друзья добрались на пароходе. (Любопытно, но именно в этой поездке участвовал с молодой женой Дж. Кемпбелл, секретарь британской миссии в Персии, предсказавший Грибоедову, что его ждут большие сложности и неприятности в Тегеране.) Наконец, накануне 6 июня 1828 г., как писал Пушкин, он расстался с Грибоедовым «в Петербурге, перед отъездом его в Персию».

О влиянии поэтов друг на друга говорят многие факты. Например, Грибоедов слышал «Бориса Годунова» в исполнении Пушкина, а тот в набросках предисловия к этому произведению откровенно написал: «Грибоедов критиковал мое изображение Иова — патриарх, действительно, был человеком большого ума, я же по рассеянности сделал из него глупца». По-видимому, рассказы Грибоедова о Персии и Востоке подействовали на Пушкина и в том смысле, что после этих встреч в его стихотворениях с восточными мотивами окончательно исчезают элементы нарочитой экзотики и чрезмерной романтики и все сильнее становятся признаки реализма. Ведь совершенно очевидно, что главной темой разговоров двух поэтов, особенно в силу острой любознательности Пушкина, была именно персидская тема, включавшая в себя и историю, и быт, и поэзию, и религию этой страны, или, в более широком смысле, тема Востока, хотя, конечно, этими темами общение поэтов не ограничивалось.
И конечно, встречи с Грибоедовым не могли не сказаться на решимости Пушкина поучаствовать в тех грандиозных событиях, которые разыгрывались в это время на южных рубежах России, о чем свидетельствовали его многочисленные обращения к императору с просьбой отправить его в действующую на Кавказе против турок армию. Получив отказ, поэт от огорчения сильно захворал, впав «в болезненное отчаяние… сон и аппетит оставили его, желчь сильно разлилась в нем, и он опасно занемог», как вспоминал навещавший Пушкина сотрудник Третьего отделения А. А. Ивановский.
16 июля 1828 г. Грибоедов сделал в Тифлисе предложение юной, не достигшей еще 16 лет Нине Чавчавадзе, с которой повенчался уже 22 августа, а Пушкин в конце декабря того же года впервые встретил на балу в доме Кологривовых юную красавицу Наталью Гончарову,
которой было… 16 лет (вот еще одно совпадение судеб двух поэтов, встретивших почти одновременно свою настоящую любовь). Как писал позднее Пушкин: «Когда я увидел ее в первый раз, красоту ее едва начали замечать в свете. Я полюбил ее. Голова у меня закружилась…» Свое предложение невесте Пушкин сделал 30 апреля 1829 г. в Москве, когда он уже начал осуществлять план своего долгожданного побега на Кавказ и рвался сначала именно в Тифлис. И именно в этом путешествии, как мы увидим далее, судьба вновь и вновь сводила Пушкина с Грибоедовым, хоть он и был уже в «ином мире»…
А тем временем в столице Грузии Пушкина ждало долгожданное событие:
«В Тифлисе надеялся я найти Раевского, но узнав, что полк его уже выступил в поход, я решился просить у графа Паскевича позволения приехать в армию… Я с нетерпением ожидал разрешения моей участи. Наконец получил записку от Раевского. Он писал мне, чтобы я спешил к Карсу, потому что через несколько дней войско должно было идти далее. Я выехал на другой же день».
Хлопотами своего товарища еще по путешествию 1820 г. на Кавказ Николая Николаевича Раевского, который был тогда командиром прославленного Нижегородского драгунского полка, Пушкин получил разрешение прибыть в расположение русской армии в Карс именно от Паскевича, о связях которого с Грибоедовым мы уже писали. А выехать страннику в дорогу выпало 10 (22) июня 1829 г. Начинались самые яркие приключения поэта.
Пост №8. Пушкин и Грибоедов: последняя встреча
Получив 10 (22) июня разрешение Паскевича присоединиться к армии, Пушкин, меняя лошадей на казачьих постах, «галопом помчался» к лагерю русских войск, преодолев в первый день 72 версты, во второй — 77, в третий — 94, в четвертый — 46, всего, с учетом пройденного еще походным порядком вместе с войсками, около 320 верст за четыре дня. Такую нагрузку мог себе позволить только самый опытный кавалерист.
Вероятнее всего, это были самые напряженные в физическом отношении дни в жизни Пушкина, и не мудрено, что он никак не мог вести тогда свои дневники, что и сказалось в итоге в некоторой путанице в его «Путешествии в Арзрум».

Но поэт не был бы поэтом, если бы и в этой спешке не различал пестрые приметы окружающего мира, менявшегося на глазах: «Я ехал верхом, переменяя лошадей на казачьих постах. Вокруг меня земля была опалена зноем. Грузинские деревни издали казались мне прекрасными садами, но, подъезжая к ним, видел я несколько бедных сакель, осененных пыльными тополями. Солнце село, но воздух всё еще был душен:
Ночи знойные!
Звезды чуждые!..
Луна сияла; всё было тихо; топот моей лошади один раздавался в ночном безмолвии. Я ехал долго, не встречая признаков жилья. Наконец увидел уединенную саклю. Я стал стучаться в дверь. Вышел хозяин. Я попросил воды сперва по-русски, а потом по-татарски. Он меня не понял. Удивительная беспечность! в тридцати верстах от Тифлиса и на дороге в Персию и Турцию, он не знал ни слова ни по-русски, ни по-татарски. Переночевав на казачьем посту, на рассвете отправился я далее. Дорога шла горами и лесом. Я встретил путешествующих татар; между ими было несколько женщин. Они сидели верхами, окутанные в чадры; видны были у них только глаза да каблуки».

И именно в эти изнурительные для поэта дни произошли два события, которые автор «Путешествия» описал с особым настроем. Первое произошло 11 (23) июня неподалеку от крепости Гергеры. А накануне этого события Пушкин оказался в цветущей Армении:
«Я стал подыматься на Безобдал, гору, отделяющую Грузию от древней Армении… Я взглянул еще раз на опаленную Грузию и стал спускаться по отлогому склонению горы к свежим равнинам Армении. С неописанным удовольствием заметил я, что зной вдруг уменьшился: климат был другой.
Человек мой со вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окруженной издали горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей. Прошло более шести часов, и я начал удивляться пространству перехода. Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пестрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. Я изъяснился кое-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла мне сыру и молока».

Во время моего путешествия по пушкинским следам я долгое время провел в Гергерах (ныне — Гаргар), беседуя с местными жителями, которые с удовольствием указали мне на ту самую саклю, из которой якобы какая-то армянка вынесла поэту сыра и молока. Сакля была совершенно разрушена, и произошло это не когда-то давным-давно, а во время известного спитакского землетрясения. Правда ли это было то самое место, не знаю, но колорит армянского быта я тогда увидел воочию. А тем временем Пушкина ждала удивительная встреча:
«…Я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. “Откуда вы?” — спросил я их. “Из Тегерана”. — “Что вы везете?” — “Грибоеда”. Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис.
Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году, в Петербурге, пред отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было хотел его успокоить; он мне сказал: «Vous ne connaissez pas ces gens-là: vous verrez qu’il faudra jouer des couteaux». (Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей.)
Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междуусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею».



Далее в «Путешествии» следует широко известный текст о Грибоедове, который включает в себя и воспоминания Пушкина о встречах с другом, и точный психологический портрет Грибоедова с особенностями его характера и вехами судьбы:
«Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в “Московском телеграфе”. Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит ведь и наш голос.
Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностию, уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия: “Горе от ума” произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил… Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна.
Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны…»

Не о такой ли смерти, как у Грибоедова, думал и мечтал для себя сам Пушкин, который в трагические дни дуэльной истории с Дантесом бесстрашно шел на поединок, словно в смертельный бой, защищая и свою честь, и честь своей жены. Так же геройски Пушкин вел себя и во время своего арзрумского приключения, беря пример, в том числе, и с Грибоедова. И. П. Липранди как-то отметил такую показательную черту характера поэта: «Александр Сергеевич всегда восхищался подвигом, в котором жизнь ставилась, как он выражался, на карту» (напомним, что и игроком Пушкин тоже был азартным!).
Сетуя, что «замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов», Пушкин фактически ответил на вопрос, почему в его «Путешествии» появилась отдельная вставка о Грибоедове: «Написать его биографию было бы делом его друзей…» Пушкин, по сути, отдал дань памяти поэту-мученику, имя которого сразу же после гибели стало запретным с учетом загадочных и политически острых обстоятельств его смерти.
А была ли сама эта встреча в горах, мистическое значение которой бросалось в глаза уже в 1830-е гг.: ведь в ее итоге на Кавказе произошла символическая передача условной палочки «одного из первых поэтов России», от Грибоедова, к непревзойденному никем Пушкину, но одновременно и трагической линии судьбы от более старшего к более молодому поэту? Для сомнений действительно есть немало оснований, и не мудрено, что уже давно появились сторонники версии, будто такой встречи вообще не было и что ее поэт просто выдумал из художественных соображений. Мы же постараемся доказать, что эта встреча все-таки была.

Во-первых, еще никем точно не рассчитано, могли ли вообще встретиться именно в этот день и именно в этом месте Пушкин и траурная процессия. Во-вторых, Пушкин, зная прекрасно пройденный им маршрут, почему-то, как будто бы специально, перепутал в своем повествовании положение мест следования: крепость, или село Гергеры, расположена на самом деле до Безобдальского перевала, а не после него, как он указал в тексте, рядом с этим селом нет никаких «трех шумных потоков», и стоит оно не на «высоком берегу реки». В-третьих, и это самое главное, Пушкин увидел не внушительную и торжественную процессию, а весьма скромную и немногочисленную: два вола везли арбу, сопровождаемую несколькими грузинами.
Попробуем разгадать эту загадку, которая давно уже будоражит умы исследователей. Начнем с того, что тело убитого Грибоедова действительно пережило удивительную эпопею. После разгрома миссии оно в силу страшных повреждений было с величайшим трудом опознано среди трупов убитых только по сведенному мизинцу — итогу ранения, полученного поэтом во время его дуэли в 1819 г. с А. И. Якубовичем.
В церковных книгах сохранилась запись, свидетельствующая о том, что в 1829 г. в армянской церкви Тегерана в течение двух месяцев находились три гроба с покойниками: русским послом Грибоедовым, князем С. Меликовым, также погибшим во время резни, и богатой пожилой армянкой Воски-ханум. (Остальные погибшие, до перезахоронения их на территории армянской церкви в 1836 г., были просто свалены в яму за городом и находились там около семи лет.)
В архиве той же церкви имеется запись о церемонии погрузки на телегу гроба посланника для отправки к русской границе. Этот гроб самой простой работы, покрытый «черным плисом», который везли «в трахтраване, обшитом белым сукном», сопровождался до границы с Россией сотней вооруженных сардаров во главе с персидским офицером и сначала был доставлен в Тавриз, где при участии русского консула А. К. Амбургера к гробу приделали ручки и накрыли его малиновым балдахином, на котором золочеными нитками был вышит российский герб.

1 мая 1829 г. гроб был переправлен на пароме через Аракс в районе Джульфы (вот новое совпадение: именно в этот день Пушкин выехал из Москвы на Кавказ) и торжественно встречен на российском берегу войском и духовенством. На всем пути следования траурного кортежа в сторону Нахичевани его сопровождала скорбящая толпа людей. В Нахичевани, в силу изуродованности тела и его жуткого состояния по причине длительности хранения, гроб был законопачен и залит нефтью. 3 мая гроб с телом Грибоедова выехал из Нахичевани, его сняли с колесницы и повезли дальше уже на простой арбе, потому что долгая горная дорога не допускала иного транспортного средства, а также не способствовала массовому торжественному шествию. Сопровождать гроб через Эчмиадзин, Гумри и Джалал-оглы в Тифлис было поручено прапорщику Тифлисского пехотного полка Макарову с командой солдат этого полка.

Почему же до Безобдальского перевала и крепости Гергеры процессия двигалась так долго — до 11 июня, ведь примерное расстояние до них от Нахичевани по дорогам того времени — не более 500 верст? Объяснение состоит в том, что тогда в разных местах вспыхивала эпидемия чумы, повсюду вводились карантины, на дорогах выставлялись заставы и ограничивался проезд транспорта и людей. Траурный кортеж вынужден был не раз останавливаться из-за этих карантинов и лишь в конце июня достиг предместья Тифлиса — Ортачала (Артчала) в трех верстах от города, где снова пришлось пережидать карантин. Лишь 17 июля гроб с телом был доставлен в Сионский кафедральный собор Тифлиса, а 18 июля погребен в монастыре Святого Давида на горе Мтацминда (еще одно совпадение: именно на следующий день Пушкин отправился из Арзрума обратно в Тифлис). Так закончилась почти полугодовая эпопея с останками поэта.
Пушкин, выехав из Тифлиса 10 (22) июня и проехав за два дня почти 150 верст, именно 11 июня въезжал верхом в Армению со стороны Грузии, через Гергеры, по дороге, которая нынче заброшена и заменена другой, того же приблизительно направления, связывающей районные центры Армении — Степанаван (раньше Джалал-оглы) и Калинино (раньше Воронцовка) — со столицей Грузии Тбилиси.
Перевал, где состоялась, по некоторым данным, историческая встреча, находится между Ванадзором и Степанаваном, раньше он назывался Безобдальским, но был переименован в Пушкинский в честь печальной встречи, так же как и село Гергеры получило имя Пушкино. Высота Пушкинского перевала 2030 метров, и с него действительно открываются потрясающие виды на Армению.
В 1938 г. на перевале в произвольно выбранном месте был установлен памятник-родник с бронзовым барельефом, изображающим Пушкина на коне, рядом с ним арба, запряженная волами, а на арбе гроб. Памятник собирались установить сначала на вершине горы, но из-за геологических условий не смогли этого сделать. Поэтому он был установлен на 860 метров ниже, у старого шоссе Степанаван — Ленинакан (ныне Гюмри). В 1971 г. через гору построили двухкилометровый тоннель, и памятник стало неудобно посещать, так как он находился вдалеке от новой дороги. Поэтому было принято решение перенести его ближе к району села Гергеры. Памятник переместили почти на 8 километров и 30 ноября 2005 г. открыли на новом месте, опять же совершенно произвольном. Получилось, что памятник стоял и стоит совершенно не там, где, согласно описанию поэта, произошла та самая встреча. Думаю, что когда-нибудь должна будет восторжествовать справедливость, и памятник будет перенесен туда, где находится его законное место.

Но была ли все-таки встреча на перевале? Посмеем утверждать, что была. Указанные выше сомнения рассеиваются, если учесть следующие существенные обстоятельства.
1. Время следования Пушкина в одну сторону, а гроба с телом Грибоедова в другую сторону по одной и той же дороге, соединявшей Грузию и Армению, доказывает, что они могли пересечься в указанной точке именно 11 (23) июня. Надеюсь, что где-нибудь в архивах еще прячутся документы о точном расписании движения процессии, которые подтвердят это утверждение.
2. Неточности в описании Пушкиным порядка следования и деталей окружающей природы можно объяснить не только тем, что он описывал эти события по памяти, хотя и с использованием своего кавказского дневника, позднее, в 1830 или 1835 г., но и тем, что, по-видимому, для поэта такие детали не имели существенного значения, ведь он передавал не только и не столько четко документальную картину увиденного, сколько яркий художественный образ своего путешествия. По мнению исследователя К. В. Айвазяна, Пушкин то ли по забывчивости, то ли специально назвал именем Гергеры село Джалал-оглы (в 1924 г. переименованное в честь Степана Шаумяна в город Степанаван), которое подходит по всем приметам: и три речки сливаются здесь перед въездом в село, и стоит это село, представлявшее собой крепость, именно на «высоком берегу».
Мне посчастливилось проехать тем же самым путем, которым следовал Пушкин в Арзрум по Армении, и я могу с полной уверенностью утверждать, что историческая встреча состоялась никак не на самом Пушкинском перевале и никак не в Гергерах, а именно в Джалал-оглы, которое полностью подходит под то описание, которое оставил поэт.
Доказательством этого являются красноречивые фотографии и перевала, и Гергер, и Джалал-оглы.
3. Это же обстоятельство художественности, а не строгой документальности, вероятнее всего, сыграло свою роль и в том, как скупо описал Пушкин саму траурную процессию. Напомним, что все обстоятельства гибели Грибоедова были фактически преданы забвению сразу же после трагедии и даже упоминать о них тогда было запрещено цензурой. Пушкин хотел прежде всего обратить внимание российской публики на саму память о великом русском поэте, погибшем на дипломатическом посту, и разукрашивать картину проводов «уже почти забытого светом» поэта он просто не посчитал нужным.

При этом Пушкин отнюдь не погрешил против истины. Мы знаем, что гроб с телом в горных условиях везли действительно на арбе (примечательно, что первоначально поэт писал, что ее везли «четыре вола», потом он переделал их на «два вола»), а колесница или следовала далее, или просто была оставлена где-то на очередном карантине. Не забудем, что шел уже 38-й день путешествия гроба из Нахичевани, и, конечно, на безлюдной горной дороге никому не нужна была торжественная процессия с «малиновым балдахином», «расписанным золотом российским гербом», и марширующей ротой солдат. Все происходило намного прозаичнее: сопровождавшие гроб солдаты (кстати, именно Тифлисского, а значит, грузинского полка) во время нудного пути по жаре и горным перевалам могли не соблюдать строгости марша, рассредоточиваться, отдыхать в дороге и т. д. Вот почему и могли сопровождать арбу, как писал Пушкин, «несколько грузин» (Пушкин ведь не утверждал, что они не были солдатами).

Немаловажно также учесть, что первоначальным пунктом следования прапорщика Макарова с солдатами и гробом Грибоедова был именно Джалал-оглы, где располагалась крепость, которая была построена в 1826 г. под руководством — и это весьма удивительно! — именно Дениса Давыдова, известного поэта и партизана. Вероятнее всего, в Джалал-оглы почетному эскорту пришлось пробыть из-за эпидемии чумы некоторое время и, по-видимому, каким-либо образом перегруппироваться или даже переформироваться.
4. До сих пор появляющееся в печати сомнение, что в отличие от траурной процессии Пушкин якобы не мог так быстро миновать все «чумные карантины», когда он выехал из Тифлиса, опровергается очень просто: поэт ведь ехал из еще не охваченного эпидемией Тифлиса в сторону боевых действий с официальным разрешением на это, свернув впоследствии с дороги на Эривань в сторону турецкого Карса и Арзрума. О самой чуме по пути следования поэт узнал как раз после встречи с останками Грибоедова, когда он встретил «армянского попа», ехавшего в Ахалцык из Эривани: «Что именно нового в Эривани?» — спросил я его. «В Эривани чума», — отвечал он». Кстати, на обратном пути из Арзрума, куда уже пришла угроза чумы, Пушкин, так же как и траурная процессия, несколько дней вынужден был потерять в чумных карантинах: до Тифлиса он добирался больше 11 дней.
5. Не противоречит факту встречи и то обстоятельство, что текст о Грибоедове смотрится в общем контексте «Путешествия» как отдельная и важная вставка. По мнению исследователя С. А. Фомичева, этот отрывок был написан Пушкиным как самостоятельное произведение еще в 1830 г. для напечатания в «Литературной газете» в качестве второй статьи о его путешествии (первая — «Военная Грузинская дорога» — была опубликована там же в начале 1830 г.). Эту версию подтверждает хотя бы то, что в беловом автографе «Путешествия» «грибоедовский эпизод» помещен на отдельных листах, заключен знаком концовки, а перед его начальными словами рукой Пушкина сделана пометка карандашом «Статья II». По-видимому, никакие неточности в тексте о Грибоедове не смущали Пушкина, желавшего напомнить читателям о том, кого Россия так трагически потеряла.

Итак, печальная встреча состоялась, и она не могла не наложить свой отпечаток на все путешествие, которое уже на следующий день, 12 (24) июня, принесло поэту новый прилив эмоций. Ведь Пушкин добрался, наконец, до границы своего бескрайнего Отечества. А до этого поэту пришлось после лицезрения «плодоносных нив и цветущих лугов» и нежелания заночевать в Пернике, по совету казачьего урядника, предвещавшего грозу, пережить настоящий ливень по дороге до Гюмри:
«Мне предстоял переход через невысокие горы, естественную границу Карского пашалыка. Небо покрыто было тучами; я надеялся, что ветер, который час от часу усиливался, их разгонит. Но дождь стал накрапывать и шел всё крупнее и чаще. От Пернике до Гумров считается 27 верст. Я затянул ремни моей бурки, надел башлык на картуз и поручил себя провидению.
Прошло более двух часов. Дождь не переставал. Вода ручьями лилась с моей отяжелевшей бурки и с башлыка, напитанного дождем. Наконец холодная струя начала пробираться мне за галстук, и вскоре дождь меня промочил до последней нитки. Ночь была темная; казак ехал впереди, указывая дорогу. Мы стали подыматься на горы. Между тем дождь перестал и тучи рассеялись. До Гумров оставалось верст десять. Ветер, дуя на свободе, был так силен, что в четверть часа высушил меня совершенно. Я не думал избежать горячки. Наконец я достигнул Гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда спешил я войти. Тут нашел я двенадцать казаков, спящих один возле другого. Мне дали место; я повалился на бурку, не чувствуя сам себя от усталости. В этот день проехал я 75 верст. Я заснул как убитый».

Проснувшись поутру, Пушкин больше всего боялся, что он уже заболел, но почувствовал себя бодрым и здоровым, и, выйдя из палатки, увидел на ясном небе «снеговую, двуглавую гору», которую он, по подсказке неизвестного, принял за Арарат, а на самом деле это была гора Алагез. Но воображение поэта тут же взыграло: «Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни, — и врана и голубицу излетающих, символы казни и примирения…» А далее последовало второе событие, потрясшее поэта в эти запоминающиеся дни:
«Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. «Вот и Арпачай», — сказал мне казак. Арпачай! наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видал я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моею любимою мечтою. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу, и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я всё еще находился в России».
Какой восторг и какое разочарование звучат в этих словах поэта: наконец-то он вырвался за пределы своего Отечества, на вольные просторы мира, за ту потаенную границу, преодолеть которую мечтал долгие годы, куда не раз хотел совершить свой побег странника-поэта, но и тут снова оказалась вроде бы русская земля. Правда, тогда поэт еще не знал, что ему «посчастливится» углубиться на территорию Турции до самого Арзрума, а это не менее 300 верст по иноземным путям-дорогам. В отличие от земель Грузии и Армении эти земли, хотя и войдут впоследствии в состав Российской империи, позднее, в 1918 г., в революционную эпоху, вновь вернутся в состав Турции.
И можно с полным основанием считать, что Пушкин целых полтора месяца, с 12 (24) июня по 28 июля (10 августа), единственный раз в жизни, но все-таки находился за границей!
Однако мы можем и ещё более усилить впечатление от жизненных странствий поэта, ведь кроме Турции, если взглянуть на современную карту мира, после распада СССР, Пушкину удалось побывать также или жить подолгу на Украине, в Молдавии, Грузии, Армении и в… Казахстане (вспомним посещение Пушкиным Уральска во время его путешествия в Оренбург в 1833 г.). Так что, включая саму Россию и Турцию, Пушкин, по современным меркам, посещал аж семь стран!
Пост №9 В зоне боевых действий
Задумав более шести лет назад свое путешествие по следам пушкинских странствий на Кавказе и в Турции, я столкнулся с невозможностью полностью повторить маршрут этих странствий: прежде всего потому, что армяно-турецкая граница уже давно закрыта, и проехать тем же путем через Гюмри (с 1924 по 1991 г. Ленинакан) в Карс и Эрзрум, как это сделал Пушкин, просто невозможно. Мне пришлось совершить 2 поездки в 2013 и 2015 годах: первая от Владикавказа до Тбилиси, а потом через Пушкинский перевал до Спитака и Еревана, в котором поэт никогда не был; вторая — из Тбилиси через Гори в Батуми, а оттуда, миновав грузино-турецкую границу, я проследовал через Ардоган и Карс в вожделенный Эрзрум.

Уже во время первой поездки, я не мог удержаться, чтобы не запечатлеть свои ощущения в стихотворении «Дорога на Эрзрум»:

Фото: Сергей Дмитриев
Дорогу Пушкина – с Тифлиса до Спитака –
Проехали мы за семь часов
Без спешки, суеты и страха
Даже в горах, под сенью облаков.
И убедились, что совсем не просто
Великим ныне следовать путям:
Развалины, препятствия, погосты,
Дороги скверные и всяческий бедлам…
Живут ведь скудно, просто, не богато
Народы горные, как прежде, и сейчас,
Но в этом они вряд ли виноваты,
А виноват лишь Батюшка-Кавказ.

Фото: Сергей Дмитриев
Он и суров, и часто беспощаден,
И не меняется со временем совсем,
И от него спокойствия награды
Ты не напросишься никак, ничем.
То войны, то вражда, то склоки
Религий, то землетрясений дрожь,
И эти тяжкие истории уроки
Никак не «вылечишь» и не поймёшь…
А вот уже в 2015 г., вновь покоряя «дикий Кавказ», я добрался все-таки до Эрзрума, догоняя Пушкина, как будто бы еще продолжавшего свое знаменитое путешествие… Напомним, что поэт, переехав через границу Российской империи по реке Арпачай 12 (24) июня 1829 г., рвался к Карсу, до которого ему оставалось еще 75 верст:
«К вечеру надеялся я увидеть наш лагерь. Я нигде не останавливался. На половине дороги, в Армянской деревне, выстроенной в горах на берегу речки, вместо обеда съел я проклятый чюрек, армянский хлеб, испеченный в виде лепешки пополам с золою, о котором так тужили турецкие пленники в Дариальском ущелии. Дорого бы я дал за кусок русского черного хлеба, который был им так противен. Меня провожал молодой турок, ужасный говорун. Он во всю дорогу болтал по-турецки, не заботясь о том, понимал ли я его или нет. Я напрягал внимание и старался угадать его. Казалось, он побранивал русских и, привыкнув видеть всех их в мундирах, по платью принимал меня за иностранца».

По пути Пушкину встретился офицер из русского лагеря, объявивший, что армия уже выступила из-под Карса. Это вызвало у поэта тревогу: вся его спешка была зря, ведь он имел разрешение следовать только до Карса и как быть дальше не знал.
«Не могу описать моего отчаяния: мысль, что мне должно будет возвратиться в Тифлис, измучась понапрасну в пустынной Армении, совершенно убивала меня. Офицер поехал в свою сторону; турок начал опять свой монолог; но уже мне было не до него. Я переменил иноходь на крупную рысь и вечером приехал в турецкую деревню, находящуюся в 20 верстах от Карса. Соскочив с лошади, я хотел войти в первую саклю, но в дверях показался хозяин и оттолкнул меня с бранию. Я отвечал на его приветствие нагайкой. Турок раскричался; народ собрался. Проводник мой, кажется, за меня заступился».

Пушкину все-таки выдали в турецкой деревне лошадей, он поехал «по широкой долине, окруженной горами» и вскоре увидел Карс, белеющий вдали, «мучаясь беспокойством: участь моя должна была решиться в Карсе. Здесь должен я был узнать, где находится наш лагерь и будет ли еще мне возможность догнать армию». И Пушкину в итоге повезло, он проявил завидную смекалку, когда это потребовалось. А пока, приехав в Карс под вечер и передав свой «разрешительный билет» коменданту, Пушкин сразу попросил проводить его в местные бани, но они оказались закрыты, и поэта приютила на ночь армянская семья: мать и двое сыновей, которые хорошо знали русский язык, бывали в Тифлисе и рассказали поэту, что русские войска выступили только накануне и находятся в 25 верстах от Карса: «Я успокоился совершенно, — встретил эту новость Пушкин. — Скоро старуха приготовила мне баранину с луком, которая показалась мне верхом поваренного искусства. Мы все легли спать в одной комнате; я разлегся противу угасающего камина и заснул в приятной надежде увидеть на другой день лагерь графа Паскевича».

Однако утром Пушкин не мог не отправиться осматривать город и был поражен крепостью Карса, которая и у меня вызвала те же самые чувства, когда я ее увидел:

воспринимается как совершенно
неприступная. Но русским войскам
она покорилась /Фото: Сергей Дмитриев
«Осматривая укрепления и цитадель, выстроенную на неприступной скале, я не понимал, каким образом мы могли овладеть Карсом. Мой армянин толковал мне как умел военные действия, коим сам он был свидетелем. Заметя в нем охоту к войне, я предложил ему ехать со мною в армию. Он тотчас согласился. Я послал его за лошадьми. Он явился вместе с офицером, который потребовал от меня письменного предписания. Судя по азиатским чертам его лица, не почел я за нужное рыться в моих бумагах и вынул из кармана первый попавшийся мне листок. Офицер, важно его рассмотрев, тотчас велел привести его благородию лошадей по предписанию и возвратил мне мою бумагу: это было послание к калмычке, намаранное мною на одной из кавказских станций. Через полчаса выехал я из Карса, и Артемий (так назывался мой армянин) уже скакал подле меня на турецком жеребце с гибким куртинским дротиком в руке, с кинжалом за поясом, и бредя о турках и сражениях».
И уже через два часа, проехав через опустевшие деревни, путники добрались до русского лагеря, расположенного на берегу Карс-чая, а еще через несколько минут поэт уже был в палатке своего старого друга Николая Николаевича Раевского-младшего (1801-1843), командовавшего Нижегородским драгунским полком. С Раевским он совершил путешествие на Кавказ и в Крым еще в 1820 г., ему посвятил свою поэму «Кавказский пленник» и встречался с ним в Одессе в 1824 г. За отличную службу в ходе русско-турецкой войны Раевский получит позднее звание генерал-лейтенанта. Так началась военная эпопея в жизни поэта, которую он помнил до самых последних дней своей жизни…

И самое удивительное, что Пушкин встретил в войсках столько своих бывших знакомых и товарищей, что понятным становится его дерзкий порыв убежать из Москвы и попасть на фронт. Поэта связывала со многими декабристами личная дружба, и он внимательно следил за ходом следствия над ними, отметив однажды в письме П. А. Вяземскому: «Повешенные повешены, но каторга 120-ти друзей, братьев, товарищей – ужасна». Следует пояснить, что на Кавказ после восстания декабристов было сослано много офицеров, подозреваемых в причастности к тайным обществам и разжалованных в солдаты, а также более 2800 солдат. И Пушкин рвался увидеть и поддержать многих близких для него людей.
Начнем с того, что в Нижегородском драгунском полку служил родной брат поэта Лев Сергеевич, принимавший активное участие в русско-персидской и русско-турецкой войнах. С ним поэт встретился именно в палатке Раевского. Помимо него Пушкина ждали встречи с декабристами или близкими к ним по духу И. Г. Бурцовым, В. Д. Сухоруковым, М. И. Пущиным, П. П. Коновницыным, А. С. Гангебловым, Н. Н. Семичевым, Е. Лачиновым, Н. Оржицким, З. Чернышевым, лицейским товарищем поэта В. Д. Вольховским (1798-1841), обер-квартирмейстером Отдельного кавказского корпуса, который в 1827-1828 гг. служил под началом Паскевича вместе с Грибоедовым и выполнял в ходе русско-персидской войны особые поручения, в том числе по сбору контрибуции в Тегеране. «Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменились! как быстро уходит время!» – писал об этих встречах в своих путевых записках Пушкин.

Рисунок А. О. Орловского.
1820-е гг.
Рисковал ли поэт, попав в армию? Конечно, рисковал, да еще сам подливал масла в огонь своим порывом к участию в боевых действиях. Первые слова, которые сказал Пушкин, обращаясь к встреченному им М. И. Пущину, были: «…Где турки и увижу ли я их; я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай мне, пожалуйста, видеть то, зачем сюда с такими препятствиями приехал». Поэт попал в самое пекло русско-турецкой войны и впервые в жизни показал себя настоящим воином, проявив неприкрытый и порой безрассудный героизм, следуя примеру многих героев той жестокой военной поры, в том числе и Грибоедова, погибшего, по сути, на поле боя с оружием в руках.
Позднее Н. Н. Раевский утверждал, что «было нечто, мне кажется, болезненное в той легкости, с которой он рисковал своей жизнью…». Поэт готов был мчаться под пули без всякой опаски, воодушевленный своим участием в великих исторических событиях. И это с особой силой проявилось в сражении за Арзрум, блистательной операции, принесшей славу русскому оружию. Многие участники этой кампании запомнили Пушкина, который в кавказской бурке, наброшенной на изысканный сюртук, в круглой шляпе, с нагайкой в руке или длинной казацкой пикой во время боя, скорее напоминал солдатам то ли «немецкого пастора», то ли «батюшку», но никак не штатского поэта. Пушкин со свойственной ему иронией позднее изобразил самого себя в таком виде в ушаковском альбоме.

Автопортрет, сделанный поэтом
в так называемом ушаковском альбоме
сестер Ушаковых, где он оставил
много зарисовок своего путешествия
в Арзрум. 1829
Преследуя турок, поэт не раз отрывался от войск и лишь случайно уберегся от пуль и ранений. По словам Пущина, «в нем разыгралась африканская кровь, и он стал прыгать и бить в ладоши, говоря, что на этот раз он непременно схватится с турком». От беды Пушкина спас капитан Н. Н. Семичев, вовремя взявший под уздцы лошадь Пушкина. Как писал историк Н. И. Ушаков, «Семичев, посланный генералом Раевским вслед за поэтом, едва настигнул его и вывел насильно из передовой цепи казаков в ту минуту, когда Пушкин… схватив пику после одного из убитых казаков, устремился противу неприятельских всадников».
Пушкин как будто бы о самом себе писал в стихотворении «Делибаш»:
Эй, казак! Не рвися к бою:
Делибаш на всем скаку
Срежет саблею кривою
С плеч удалую башку.
Мчатся, сшиблись в общем крике…
Посмотрите! каковы?..
Делибаш уже на пике,
А казак без головы.
Обратимся теперь к тексту самого «Путешествия в Арзрум», чтобы на ярких примерах в виде краткой хроники показать, что пришлось увидеть и пережить Пушкину на войне.

13 (25) июня 1829 г. не успел Пушкин прибыть в лагерь, как был получен приказ выступать, поэт поехал с Раевским и Нижегородским драгунским полком, и ночью во время привала, устроившись в палатке, был представлен командующему графу Паскевичу: «Я нашел графа дома перед бивачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чуждый воинскому искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту».
14 (26) июня русские войска прошли опасное ущелье и стали на высотах Саган-лу в десяти верстах от неприятельского лагеря. На передовых пикетах завязалась перестрелка, И Пушкин впервые увидел реальный бой:

Рисунок А. С. Пушкина. 1829
«Я поехал с Семичевым посмотреть новую для меня картину. Мы встретили раненого казака: он сидел, шатаясь на седле, бледен и окровавлен. Два казака поддерживали его. «Много ли турков?» — спросил Семичев. — «Свиньем валит, Ваше Благородие», — отвечал один из них. Проехав ущелие, вдруг увидели мы на склонении противуположной горы до 200 казаков, выстроенных в лаву, и над ними около пятисот турков. Казаки отступали медленно; турки наезжали с большею дерзостию, прицеливались шагах в двадцати и, выстрелив, скакали назад. Их высокие чалмы, красивые доломаны и блестящий убор коней составляли резкую противуположность с синими мундирами и простою сбруей казаков. Человек пятнадцать наших было уже ранено. Подполковник Басов послал за подмогой. В это время сам он был ранен в ногу. Казаки было смешались. Но Басов опять сел на лошадь и остался при своей команде. Подкрепление подоспело. Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставя на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный. Турки отсеченные головы отсылают в Константинополь, а кисти рук, обмакнув в крови, отпечатлевают на своих знаменах. Выстрелы утихли… Мы возвратились поздно. Проезжая нашим лагерем, я видел наших раненых, из коих человек пять умерло в ту же ночь и на другой день».
Таковы были жестокие реалии той забытой войны. И Пушкину, который, конечно, мог бы стать достойным офицером и по своей подготовке, и по своей смелости, пришлась по душе военная атмосфера.
Вот как он сам в этом признавался:
«Лагерная жизнь очень мне нравилась. Пушка подымала нас на заре. Сон в палатке удивительно здоров. За обедом запивали мы азиатский шашлык английским пивом и шампанским, застывшим в снегах Таврийских. Общество наше было разнообразно. В палатке генерала Раевского собирались беки мусульманских полков; и беседа шла через переводчика. В войске нашем находились и народы Закавказских наших областей и жители земель, недавно завоеванных. Между ими с любопытством смотрел я на язидов, слывущих на Востоке дьяволопоклонниками. Около трехсот семейств обитают у подошвы Арарата. Они признали владычество Русского Государя. Начальник их, высокий, уродливый мужчина в красном плаще и черной шапке, приходил иногда с поклоном к генералу Раевскому, начальнику всей конницы. Я старался узнать от язида правду о их вероисповедании. На мои вопросы отвечал он, что молва, будто бы язиды поклоняются сатане, есть пустая баснь; что они веруют в единого Бога; что по их закону проклинать дьявола, правда, почитается неприличным и неблагородным, ибо он теперь несчастлив, но со временем может быть прощен, ибо нельзя положить пределов милосердию Аллаха».
Именно 14 (26) июня произошла попытка Пушкина ворваться в бой и спасение его Семичевым, и именно этот момент поэт изобразил, нарисовав себя верхом на коне и в круглой шляпе. Что может лучше характеризовать поэта, стремившегося стать воином? Примерно в эти же дни Пушкин читал брату, Раевскому, М. В. Юзефовичу и другим офицерам «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина», причем автор подробно рассказал слушателям первоначальный план своего романа, по которому его герой должен был или попасть в число декабристов, или погибнуть на Кавказе.
17 (29) июня была еще одна схватка с турками, и Пушкин увидел Карабахский полк, возвращавшийся с восемью турецкими знаменами.

19 июня (1 июля) Пушкин снова в гуще событий, развивавшихся стремительно весь день:
«На левом фланге, куда звал меня Бурцов, происходило жаркое дело. Перед нами (противу центра) скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли. Татары наши окружали их раненых и проворно раздевали, оставляя нагих посреди поля. Генерал Раевский остановился на краю оврага… Около шестого часу войска опять получили приказ идти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами и вскоре начали отступать. Конница наша была впереди; мы стали спускаться в овраг; земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда (сводный) уланский полк переехал бы через меня. Однако Бог вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор…Турки бросались в овраги, находящиеся по обеим сторонам дороги; они уже не стреляли; по крайней мере ни одна пуля не просвистала мимо моих ушей».

Пушкин не мог не соединять
свои поэтические и дневниковые записи
с рисованием.1829
После этого Пушкин следовал с войсками до ночного привала, он передал важное донесение Раевского Паскевичу, выступив, по сути, курьером. По воспоминаниям А. С. Гангеблова, «осадив лошадь в двух-трех шагах от Паскевича, он снял свою шляпу, передал ему несколько слов Раевского и, получив ответ, опять понесся к нему же, Раевскому». В этот день Пушкин чудом избежал смерти, как и многие другие офицеры, которые находились с Паскевичем в сакле, где был заложен пороховой заряд:
«Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в 30 верстах от места, где мы ночевали. Дорога полна была конных отрядов. Только успели мы прибыть на место, как вдруг небо осветилось как будто метеором, и мы услышали глухой взрыв. Сакля, оставленная нами назад тому четверть часа, взорвана была на воздух: в ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили несколько казаков. Вот все, что в то время успел я увидеть. Вечером я узнал, что в сем сражении разбит Сераскир Арзрумский, шедший на присоединение к Гаки-Паше с тридцатью тысячами войска. Сераскир бежал к Арзруму; войско его, переброшенное за Саган-лу, было рассеяно, артиллерия взята, и Гаки-паша один оставался у нас на руках».
20 июня (2 июля) Пушкин встретил утром Паскевича, спросившего поэта: «Вы не устали после вчерашнего? — Немножко, г. граф. — Мне за вас досадно, потому что нам предстоит еще один переход, чтобы нагнать Пашу, а затем придется преследовать неприятеля еще верст тридцать». Этот переход из-за жары дался всем нелегко. Уставший Пушкин, по его словам, лег на «свежую траву», «опутал поводья около руки и сладко заснул, в ожидании приказа идти вперед. Через четверть часа меня разбудили».
Когда русские войска достигли лагеря Гаки-Паши, завязалась новая схватка. Пушкина потрясло в этот день то, как «спокойно» умирал на руках своих товарищей один из татарских беков, находившийся на русской службе. А когда поэт увидел в лощине около пятисот пленных турок, то ему пришлось даже заступиться за одного раненого турецкого солдата, которого могли заколоть из милосердия, чтобы он не мучился. Пушкин написал, что он «насилу привел его, изнеможенного и истекающего кровию, к кучке его товарищей. При них был полковник Анреп. Он курил дружелюбно из их трубок, несмотря на то, что были слухи о чуме, будто бы открывшейся в турецком лагере. Пленные сидели, спокойно разговаривая между собою. Почти все были молодые люди. Отдохнув, пустились мы далее. По всей дороге валялись тела. Верстах в пятнадцати нашел я Нижегородский полк, остановившийся на берегу речки посреди скал. Преследование продолжалось еще несколько часов. К вечеру пришли мы в долину, окруженную густым лесом, и наконец мог я выспаться вволю, проскакав в эти два дня более осьмидесяти верст». Таковы были военные будни Пушкина — то ли воина, то ли путешественника.
24 июня (6 июля) утром Пушкин вместе с войсками подошел к Гассан-Кале, древней крепости, накануне занятой отрядом князя Ф. А. Бековича-Черкасского. Утомленный длинными переходами, поэт вынужден был поучаствовать в еще одном почти 40-верстном переходе части Нижегородского полка в горы, чтобы атаковать турок — но их там не оказалось. Вернувшись в лагерь русских войск, расположившийся на равнине перед крепостью Гассан-Кале, которая почиталась ключом к Арзруму, Пушкин опять чуть не попал в беду. Он решился искупаться в находившемся в каменном строении бассейне с горячим железо-серным источником, но почувствовал вдруг головокружение, тошноту, и едва нашел в себе силы выбраться из бассейна. На следующий день, 25 июня (7 июля) поэта ждала новость о начале похода к Арзруму. Предстояли самые решающие события русско-турецкой войны…
Пост №10 Взятие Арзрума

25 июня (7 июля), в день рождения императора Николая I, в пять часов вечера русские войска выступили к Арзруму и на следующий день после ночевки у селения Наби-чай стали в горах Ак-Даг в пяти верстах от города. Как писал Пушкин, эти горы меловые, и «белая, язвительная пыль ела нам глаза; грустный вид их наводил тоску. Близость Арзрума и уверенность в окончании похода утешала нас». А в это время в городе происходило большое смятение. Вот как описал эти события поэт:
«Сераскир, прибежавший в город после своего поражения, распустил слух о совершенном разбитии русских. Вслед за ним отпущенные пленники доставили жителям воззвание графа Паскевича. Беглецы уличили сераскира во лжи. Вскоре узнали о быстром приближении русских. Народ стал говорить о сдаче. Сераскир и войско думали защищаться. Произошел мятеж. Несколько франков были убиты озлобленной чернию. В лагерь наш (26-го утром) явились депутаты от народа и сераскира; день прошел в переговорах; в пять часов вечера депутаты отправились в Арзрум, и с ними генерал князь Бекович, хорошо знающий азиатские языки и обычаи».

27 июня (9 июля) с утра войска двинулись вперед к городу, в том числе к высоте Топ-Даг, где находилась турецкая батарея. Турки оставили высоту, ставшую наблюдательным пунктом для генерала Паскевича. И, конечно, Пушкин не мог остаться в стороне от происходившего, он прибыл на высоту вместе с поэтом Михаилом Владимировичем Юзефовичем (1802-1889), поручиком, служившим при Паскевиче и награжденным за свою храбрость несколькими наградами. И вот что последовало далее:

Рисунок А.С. Пушкина. 1829
«На оставленной батарее нашли мы графа Паскевича со всею его свитою. С высоты горы в лощине открывался взору Арзрум со своею цитаделью, с минаретами, с зелеными кровлями, наклеенными одна на другую. Граф был верхом. Перед ним на земле сидели турецкие депутаты, приехавшие с ключами города. Но в Арзруме заметно было волнение. Вдруг на городском валу мелькнул огонь, закурился дым, и ядра полетели к Топ-дагу. Несколько их пронеслись над головою графа Паскевича; «Voyez les Turcs,— сказал он мне,— on ne peut jamais se fier à eux». (Смотрите, каковы турки… никогда нельзя им доверяться. — фр.).
В сию минуту прискакал на Топ-Даг князь Бекович, со вчерашнего дня находившийся в Арзруме на переговорах. Он объявил, что сараскир и народ давно согласны на сдачу, но что несколько непослушных арнаутов под предводительством Топчи-паши овладели городскими батареями и бунтуют… Тотчас подвезли пушки, стали стрелять, и неприятельская пальба мало-помалу утихла. Полки наши пошли в Арзрум, и 27 июня, в годовщину полтавского сражения, в шесть часов вечера русское знамя развилось над арзрумской цитаделию».

Рисунок А.С. Пушкина. 1829
Пушкин очень кратко описал решающие события. Между тем они были более драматическими, ведь поэт довольно долгое время находился рядом с Паскевичем на чистом месте, когда по ним палили турецкие батареи. Так же, как Грибоедов сделал это во время русско-персидской войны, Пушкин проверил свою храбрость под обстрелами орудий. Как вспоминал М. Ф. Юзефович, «Пушкину очень хотелось побывать под ядрами неприятельских пушек и, особенно, слышать их свист. Желание его исполнилось, ядра, однако, не испугали его, несмотря на то, что одно из них упало очень близко». Поэт, оказывавшийся каждый раз в центре грозных батальных событий, в итоге имел полное право сказать:
Был и я среди донцов,
Гнал и я османов шайку;
В память битвы и шатров
Я домой привез нагайку.
Пушкину, не участвовавшему по молодости в баталиях 1812 г., посчастливилось принять живое участие в новых победах русского оружия, определивших будущее целого края:
Опять увенчаны мы славой,
Опять кичливый враг сражен,
Решен в Арзруме спор кровавый,
В Эдырне мир провозглашен.

Когда мне в 2015 г. удалось посетить Арзрум, я первым делом постарался найти ту самую высоту Топ-Даг, где разворачивались главные события. И мне помог в этом тот самый рисунок Арзрума, сделанный Пушкиным по памяти осенью 1829 г. в альбоме сестер Ушаковых. С места, где сейчас на горе расположено что-то вроде мемориального места с пушками и памятником, я сделал фотографии города, и потом, рассмотрев их, был поражен, как точно изобразил поэт город на рисунке, где он иронически написал: «Арзрум, взятый с помощию божией и молитвами Екатерины Николаевны 27 июня 1829». Представленные здесь рисунок и фотография подтвердят мои слова.


Вечером того же дня Пушкин вошел в город вместе с войсками, рядом с Раевским, командиром Нижегородского драгунского полка. И он не мог не описать яркими красками увиденное в Арзруме:
«…Мы въехали в город, представлявший удивительную картину. Турки с плоских кровель своих угрюмо смотрели на нас. Армяне шумно толпились в тесных улицах. Их мальчишки бежали перед нашими лошадьми, крестясь и повторяя: «Християн! Християн!..» Мы подъехали к крепости, куда входила наша артиллерия; с крайним изумлением встретил я тут моего Артемия, уже разъезжающего по городу, несмотря на строгое предписание никому из лагеря не отлучаться без особенного позволения. Улицы города тесны и кривы. Дома довольно высоки. Народу множество,— лавки были заперты».
Как мы уже упоминали ранее, Пушкин хорошо знал историю Востока, и его описание Арзрума, напоминающее современные путеводители, изобилует и историческими деталями, и точными зарисовками, и неожиданными оценками:

изобразил в ушаковском альбоме
штурм Арзрума русскими войсками. 1829
«Арзрум (неправильно называемый Арзерум, Эрзрум, Эрзрон) основан около 415 году, во время Феодосия Второго, и назван Феодосиополем. Никакого исторического воспоминания не соединяется с его именем… Арзрум почитается главным городом в Азиатской Турции. В нем считалось до 100 000 жителей, но, кажется, число сие слишком увеличено. Дома в нем каменные, кровли покрыты дерном, что дает городу чрезвычайно странный вид, если смотришь на него с высоты.
Главная сухопутная торговля между Европою и Востоком производится через Арзрум. Но товаров в нем продается мало; их здесь не выкладывают… Не знаю выражения, которое было бы бессмысленнее слов: азиатская роскошь. Эта поговорка, вероятно, родилась во время крестовых походов, когда бедные рыцари, оставя голые стены и дубовые стулья своих замков, увидели в первый раз красные диваны, пестрые ковры и кинжалы с цветными камушками на рукояти. Ныне можно сказать: азиатская бедность, азиатское свинство и проч., но роскошь есть, конечно, принадлежность Европы. В Арзруме ни за какие деньги нельзя купить того, что вы найдете в мелочной лавке первого уездного городка Псковской губернии.
Климат арзрумский суров. Город выстроен в лощине, возвышающейся над морем на 7000 футов. Горы, окружающие его, покрыты снегом большую часть года. Земля безлесна, но плодоносна. Она орошена множеством источников и отовсюду пересечена водопроводами. Арзрум славится своею водою. Евфрат течет в трех верстах от города. Но фонтанов везде множество. У каждого висит жестяной ковшик на цепи, и добрые мусульмане пьют и не нахвалятся».

Пробыв в городе сначала всего лишь два часа, Пушкин вернулся в лагерь, где находились плененные сераскир и четверо пашей. Один из них, увидев штатского среди военных, спросил, кто это такой. Узнав, что перед ним поэт, как вспоминал Пушкин, «паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: “Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет отечества, ни благ земных, и между тем, как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и все ему поклоняются”. Выходя из палатки, я увидел молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиной в руке и мехом за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был мой брат, дервиш, пришедший поприветствовать победителя».
Пушкин-странник действительно уподобился в те дни восточному дервишу, бродящему по свету, познающему мир и новые просторы. И его больше всего занимали приметы этих новых мест, таких, как Арзрум. Ему повезло быть свидетелем и красочного вступления русской армии в город, и последующего молебна, и торжественного парада войск-победителей, и обеда, данного Паскевичем для руководителей штурма и чиновников. Рядом с поэтом в эти дни был его лицейский друг В. Д. Вольховский, поручик, историк Василий Дмитриевич Сухоруков, написавший впоследствии труды по истории войска Донского, и Раевский-младший, над которым, правда, тогда начали сгущаться тучи: за донос о том, что его окружили «государственные преступники», которым он содействует, его сначала отослали в Тифлис, а осенью 1829 г. отстранили от службы.
Оказавшись в Арзруме почти через 190 лет после Пушкина, я, конечно, увидел современный, бурлящий, как и другие турецкие крупные поселения, город. Но в нем сохранились и та же крепость, и тот же базар, и те же мечети, и те же оригинальные гробницы, которые видел Пушкин.
А главное, в Арзруме сохранился как будто бы тот самый дух «праведного», мусульманского города, который точно уловил поэт. Вот как он передал в своих записках эти впечатления и чувства:

«Мечети низки и темны. За городом находится кладбище. Памятники состоят обыкновенно в столбах, убранных каменною чалмою. Гробницы двух или трех пашей отличаются большей затейливостью, но в них нет ничего изящного: никакого вкусу, никакой мысли… Один путешественник пишет, что изо всех азиатских городов в одном Арзруме нашел он башенные часы, и те были испорчены.
Нововведения, затеваемые султаном, не проникли еще в Арзрум. Войско носит еще свой живописный восточный наряд. Между Арзрумом и Константинополем существует соперничество, как между Казанью и Москвою. Вот начало сатирической поэмы, сочиненной янычаром Амином-Оглу».
И далее Пушкин воспроизводит свои собственные стихи, которые он «спрятал» под именем янычара:

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут — и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.
Стамбул отрекся от пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил.
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.
В нем веры чистый жар потух,
В нем жены по кладбищам ходят,
На перекрестки шлют старух,
А те мужчин в харемы вводят,
И спит подкупленный евнух.
Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум;
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черплем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум’.
Постимся мы: струею трезвой
Святые воды нас поят;
Толпой бестрепетной и резвой
Джигиты наши в бой летят;
Харемы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны,
И смирно жены там сидят.

Поэт прекрасно видел, насколько неоднороден и разнообразен Восток. Об этом он лучше всего сказал именно в стихотворении «Стамбул гяуры нынче славят…», показав разницу между «порочным» Стамбулом и «праведным» Арзрумом. Позднее, 5 (17) июля, в военном лагере при Евфрате, Пушкин написал еще одно знаковое стихотворение, «Из Гафиза», обращенное к Фаргат-беку, татарскому юноше, входившему в мусульманскую воинскую часть русской армии:
Не пленяйся бранной славой
О красавец молодой!
Не бросайся в бой кровавый
С карабахскою толпой!
В черновике этого стихотворения сохранилась важная запись Пушкина: «Шеер I. Фаргад-Беку», которая может свидетельствовать о том, что поэт задумывал тогда написать целый цикл стихов (по-азербайджански «шеер» или «шеир» означает “стихотворение”) из Хафиза и других персидских лириков, но не смог впоследствии этого сделать. К тому же, по мнению исследователя Д. И. Белкина, указанный стих являлся своеобразным ответом на поэтическое творение «В Персию» поэта А. Н. Муравьева, который вскоре совершит знаковое и отмеченное Пушкиным паломничество в Иерусалим.

Стихотворение «Не пленяйся бранной славой…», скроенное из элементов русской и персидской лирики, отличает гуманное отношение поэта к жестокостям войны и его уверенность, что смерть не встретит «молодого красавца». Такое же настроение гуманизма и желания избежать лишних смертей звучит и в пушкинском описании последних минут жизни воевавшего в русских рядах и раненого Умбай-бека из Ширвана: «Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненный смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умирающий бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга».

В Арзруме Пушкин черпал и черпал свои восточные впечатления как нигде раньше. Послушаем, какая музыка звучит в его записях о дальнейших арзрумских приключениях:
«Я жил в сераскировом дворце в комнатах, где находился харем. Целый день бродил я по бесчисленным переходам, из комнаты в комнату, с кровли на кровлю, с лестницы на лестницу. Дворец казался разграбленным; сераскир, предполагая бежать, вывез из него что только мог. Диваны были ободраны, ковры сняты. Когда гулял я по городу, турки подзывали меня и показывали мне язык. (Они принимают всякого франка за лекаря.) Это мне надоело, я готов был отвечать им тем же. Вечера проводил я с умным и любезным Сухоруковым; сходство наших занятий сближало нас. Он говорил мне о своих литературных предположениях, о своих исторических изысканиях…Дворец сераскира представлял картину вечно оживленную: там, где угрюмый паша молчаливо курил посреди своих жен и бесчестных отроков, там его победитель получал донесения о победах своих генералов, раздавал пашалыки, разговаривал о новых романах. Мушский паша приезжал к графу Паскевичу просить у него места своего племянника. Ходя по дворцу, важный турок остановился в одной из комнат, с живостию проговорил несколько слов и впал потом в задумчивость: в этой самой комнате обезглавлен был его отец по повелению сераскира. Вот впечатления настоящие восточные!»
Попав в Арзрум, я тоже не удержался от поэтического взгляда на увиденное, сравнивая свои открытия с пушкинскими:

Как и при Пушкине, молитвы муэдзина
Над Эрзурумом звучат и звучат,
Будто времени всё засосала тина,
Или время вернулось назад.
Так же солнце над крепостью всходит,
Так же холод спускается с гор,
И вражда никуда не уходит,
И религий не кончился спор.
Двести лет… Но ведь только внешне
Изменился старый Эрзурум,
И блаженный, и бурный, и грешный,
Переживший рождений бум.
И узнал бы поэт воскресший
Город, где царил сераскир,
Где гарем был с трущобами смешан,
Где османский буйствовал пир?
Ныне город как будто спокоен,
Но какие в нем страсти спят?
Пушкин понял, как город скроен,
Возвратившись в Россию назад.
И его следы ныне не скрыты
Там, где города длится шум.
Ничего из того не забыто,
Что прославило старый Эрзурум!
Да, ничего еще не забыто. История продолжается, и «вражда никуда не уходит, и религий не кончился спор». А Пушкина всё еще ждет завершение его потрясающего путешествия в Арзрум, отстоящего от нас ровно на 190 лет.
Пост №11. Обратный путь
14 (26) июля, когда Пушкин находился в Арзруме уже 16 дней, когда война, казалось, уже кончена и поэт стал собираться в обратный путь, он после неудачного посещения местной бани, не шедшей ни в какое сравнение с тифлисскими банями, вдруг узнал, что в Арзруме началась чума. «Мне тотчас представились ужасы карантина, — отметил Пушкин в своих записках, — и я в тот же день решился оставить армию. Мысль о присутствии чумы очень неприятна с непривычки. Желая изгладить это впечатление, я пошел гулять по базару… Я оглянулся: за мною стоял ужасный нищий. Он был бледен как смерть; из красных загноенных глаз его текли слезы. Мысль о чуме опять мелькнула в моем воображении. Я оттолкнул нищего с чувством отвращения неизъяснимого и воротился домой очень недовольный своею прогулкою».

Однако первый испуг не остановил любопытства поэта: «…На другой день я отправился с лекарем в лагерь, где находились зачумленные. Я не сошел с лошади и взял предосторожность стать по ветру. Из палатки вывели нам больного; он был чрезвычайно бледен и шатался, как пьяный. Другой больной лежал без памяти. Осмотрев чумного и обещав несчастному скорое выздоровление, я обратил внимание на двух турков, которые выводили его под руки, раздевали, щупали, как будто чума была не что иное, как насморк. Признаюсь, я устыдился моей европейской робости в присутствии такого равнодушия и поскорее возвратился в город».

18 (30) июля Пушкин посещает уже созданный арзрумский карантин, а потом во время обеда у Паскевича напросился сопровождать офицера, которого командующий попросил посетить гарем плененного Осман-паши, который был отправлен в Тифлис. В первые дни после штурма о гареме все просто забыли, а для поэта, бредившего Востоком, пропустить такое приключение было бы огромным упущением. И вот что о нем написал Пушкин:

Рисунок А. С. Пушкина. 1829 г.
«Однажды за обедом, разговаривая о тишине мусульманского города, занятого 10 000 войска и в котором ни один из жителей ни разу не пожаловался на насилие солдата, граф вспомнил о хареме Османа-паши и приказал г. А. съездить в дом паши и спросить у его жен, довольны ли они и не было ли им какой-нибудь обиды. Я просил позволения сопровождать г. А. Мы отправились. Г-н А. взял с собою в переводчики русского офицера, коего история любопытна. 18-ти лет попался в плен к персиянам. Его скопили, и он более 20 лет служил евнухом в хареме одного из сыновей шаха. Он рассказывал о своем несчастии, о пребывании в Персии с трогательным простодушием. В физиологическом отношении показания его были драгоценны.
Мы пришли к дому Османа-паши; нас ввели в открытую комнату, убранную очень порядочно, даже со вкусом, — на цветных окнах начертаны были надписи, взятые из Корана… Старик с белой почтенной бородою, отец Османа-паши, пришел от имени жен благодарить графа Паскевича, — но г. А. сказал наотрез, что он послан к женам Османа-паши и хочет их видеть, дабы от них самих удостовериться, что они в отсутствие супруга всем довольны…»
Все попытки правителей гарема не допустить дальнейшего общения пришедших с женщинами из гарема ни к чему не привели:
«Делать было нечего. Нас повели через сад, где били два тощие фонтана. Мы приблизились к маленькому каменному строению. Старик стал между нами и дверью, осторожно ее отпер, не выпуская из рук задвижки, и мы увидели женщину, с головы до желтых туфель покрытую белой чадрою. Наш переводчик повторил ей вопрос: мы услышали шамкание семидесятилетней старухи… старуха ушла и через минуту возвратилась с женщиной, покрытой так же, как и она, — из-под покрывала раздался молодой приятный голосок. Она благодарила графа за его внимание к бедным вдовам и хвалила обхождение русских. Г-н А. имел искусство вступить с нею в дальнейший разговор. Я между тем, глядя около себя, увидел вдруг над самой дверью круглое окошко и в этом круглом окошке пять или шесть круглых голов с черными любопытными глазами. Я хотел было сообщить о своем открытии г. А., но головки закивали, замигали, и несколько пальчиков стали мне грозить, давая знать, чтоб я молчал. Я повиновался и не поделился моею находкою. Все они были приятны лицом, но не было ни одной красавицы; та, которая разговаривала у двери с г. А., была, вероятно, повелительницею харема, сокровищницею сердец — розою любви — по крайней мере, я так воображал.
Наконец г. А. прекратил свои расспросы. Дверь затворилась. Лица в окошке исчезли. Мы осмотрели сад и дом и возвратились очень довольные своим посольством. Таким образом, видел я харем: это удалось редкому европейцу. Вот вам основание для восточного романа».

Да, после таких слов становится понятным, почему долгое время после своего путешествия в Арзрум Пушкин действительно пытался писать «восточный роман». А тем временем ситуация в Арзруме стала обостряться, и дело было не только в чуме. Пришла новость, что погиб генерал, командир Херсонского Гренадерского полка Иван Григорьевич Бурцов (1794—1829), член Союзов Спасения и Благоденствия, с которым Пушкин был знаком еще в Лицее. Поэт отправился на прощание к командующему:

в Санкт-Петербурге, украшенный
турецкой саблей и картиной
Дарьяльского ущелья
«19 июля, пришед проститься с графом Паскевичем, я нашел его в сильном огорчении. Получено было печальное известие, что генерал Бурцов был убит под Байбуртом. Жаль было храброго Бурцова, но это происшествие могло быть гибельно и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче. Итак, война возобновлялась! Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий. Но я спешил в Россию… Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования вослед блестящего героя по завоеванным пустыням Армении. В тот же день я оставил Арзрум».
На самом деле Пушкин уехал из Арзрума только 21 июля (2 августа) 1829 г., написав перед этим письма своим друзьям Дельвигу, Плетневу и родителям. А турецкую саблю, украшенную накладным серебром и чеканкой, поэт всегда хранил как зеницу ока. Достаточно сказать, что она висела на стене в его кабинете на Мойке, 12, где поэту было суждено умереть, вместе с картиной Дарьяльского ущелья.
А что же Арзрум? Помнят ли в нем сегодня, что там жил Пушкин, гордятся ли таким моментом в истории города? Да, и помнят, и по-своему гордятся. Я это понял, оказавшись в 2015 г. в центре обсуждения вопроса о возможности создании в городе музея Пушкина. Эта идея родилась у энтузиастов из местного университета, в том числе изучающих русский язык и русскую литературу, получила предварительную поддержку местных властей и дипломатических представителей России. Ко мне энтузиасты обратились с просьбой оказать содействие в сборе материалов для музея, мы вместе встречались в мэрии Арзрума, где нам было подтверждено твердое намерение создать такой музей. Нам даже показали то здание в центре города, которое будет выделено под будущий музей.

Казалось, все налаживалось… Но последовало ухудшение отношений России и Турции после трагедии со сбитым российским самолетом, и вопрос подвис в воздухе. Будем надеяться, что эта благородная идея все-таки воплотится в жизнь: Пушкин достоин того, чтобы его музей возник в краях, где он впервые и единственный раз в жизни оказался за границей, где он ближе всего познакомился с миром Востока…
Между тем Пушкину предстоял обратный путь на Родину, и он оказался намного медленнее: в Тифлис поэт прибыл только 1 (13) августа, через 11 дней:

написанный во время карантина
в Гумри. 1829 г.
«Я ехал обратно в Тифлис по дороге уже мне знакомой. Места, еще недавно оживленные присутствием 15 000> войска, были молчаливы и печальны. Я переехал Саган-лу и едва мог узнать место, где стоял наш лагерь. В Гумрах выдержал я трехдневный карантин. Опять увидел я Безобдал и оставил возвышенные равнины холодной Армении для знойной Грузии. В Тифлис я прибыл 1-го августа. Здесь остался я несколько дней в любезном и веселом обществе. Несколько вечеров провел я в садах при звуке музыки и песен грузинских».
В карантине Пушкин провел три дня и нарисовал там свой колоритный и выразительный автопортрет с монограммой «АП» и надписью чьей-то чужой рукой: «Писанный им самим во время горестного его заключения в карантине Гурманском, 1829 год 28 июля». Вернувшись в Тифлис и пробыв там 6 дней, поэт первым делом посетил свежую могилу Грибоедова, который был похоронен всего лишь полмесяца назад. По воспоминаниям Н. Б. Потокского, перед могилой «Александр Сергеевич преклонил колени и долго стоял, наклонив голову, а когда поднялся, на глазах были заметны слезы». Сказано скупо, но мы можем представить себе, какие чувства обуревали поэта в этот миг прощания и преклонения перед другом. По некоторым данным, Пушкин посетил могилу Грибоедова дважды, что подчеркивает его особое отношение к памяти о друге. Пушкину суждено было посещать еще не обустроенную могилу, на которой известный памятник появится намного позже, и это не могло не усиливать у поэта горестные ощущения горечи, забвения и тревоги…

Очередной загадкой является то, что и на этот раз Пушкин не упомянул о своей встрече в Тифлисе ни с вдовой Грибоедова Ниной, ни с ее отцом, поэтом и государственным деятелем А. Г. Чавчавадзе. По-видимому, эти встречи тогда все-таки состоялись, но поэт не мог упомянуть о них в 1835 г., так как Чавчавадзе с группой его единомышленников был обвинен в 1832 г. в антиправительственном заговоре, осужден и отбывал наказание, хотя император Николай I и простит его вскоре без особых для генерала последствий. По всей видимости, в Тифлисе поэт жил у Н. Н. Раевского-младшего, который снабдил его на обратную дорогу деньгами и подарил ящик глинтвейна.

Далее в пути Пушкина ждала ночная буря близ Коби, чудное зрелище у Казбека, когда «белые, оборванные тучи перетягивались через вершину горы», а «уединенный монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал в воздухе, несомый облаками», и настоящее наводнение в районе Терека с «растерзанными» берегами и загромождением водных потоков. Но Пушкин благополучно переправился через водную стихию и выехал «из тесного ущелия на раздолье широких равнин Большой Кабарды». В Душете поэт встретил Р. И. Дорохова, а во Владикавказе М. И. Пущина, с которыми он поехал дальше лечиться на Кавказские Минеральные воды. Ехали до Пятигорска через Екатериноград с военным отрядом и под прикрытием орудия, Пушкин часто уезжал от отряда верхом на казачьей лошади в поисках приключений, но все прошло спокойно.

Рисунок А. С. Пушкина
с надписью «О горе мне! Карс! Карс!».
1829 г.
15 (27) августа в Пятигорске Пушкин нарушил данный им друзьям запрет на карточную игру, после чего несколько дней отчаянно играл в карты и проиграл тысячу червонцев, данную ему Раевским. Забытые страсти проснулись тогда в поэте, и это продолжалось в Кисловодске, где поэт за 15 дней лечения принял 19 ванн, а по вечерам продолжал карточные игры. Пора было и честь знать: Пушкин 7 (19) сентября выехал из Кисловодска и через Горячеводск, Новочеркасск, Георгиевск, Ставрополь направился к Москве, которую достиг через 13 дней, 20 сентября (2 октября) 1829 г. и сразу же отправился к Гончаровым, чтобы увидеть свою невесту Наталью. И вот что интересно: еще долго Пушкин называл ее «своим Карсом» и даже не раз рисовал ее с надписями о Карсе, имея в виду ее неприступность, как у турецкой крепости.
Долгое и изнурительное путешествие поэта подошло к концу. И оно не могло не оказать на его творчество и дальнейшую жизнь колоссальное влияние.
Вообще за время своего арзрумского бегства Пушкин собственными глазами увидел столько восточного колорита, что его хватило на несколько лет творческих поисков. Напомним здесь лишь несколько примеров такого рода из путешествия поэта: на пути к Георгиевску поэт посетил калмыцкую кибитку и разговаривал в ней с молодой калмычкой; не доезжая Владикавказа, он поднимался на минарет Татартуб и оставил на его стене свое имя; в Тифлисе ходил в местные бани, в которые его, несмотря на женский день, провел «старый персиянин», и особенно полюбил в столице Грузии армянский базар, где однажды видели, как он «шел, обнявшись с татарином»; в Карсе внимательно осматривал крепость, которую чудом взяли русские войска; в частях русской армии общался с «беками мусульманских полков», проявляя особый интерес к вероисповеданию курдов-язидов, слывших на Востоке дьяволопоклонниками, разговаривал с ними и убедился в их вере в Аллаха и неприятии сатаны; в Гассан-Кале побывал в серно-железистой бане, осмотрел местные источники и крепость; на полях боев неоднократно рассматривал убитых и раненых турок, помогал последним; неоднократно беседовал с русскими солдатами и офицерами об их воинских подвигах и судьбах; в Арзруме участвовал во всех парадных мероприятиях по случаю русской победы, долго и подробно изучал город, общался с турецкими пленными, жил во дворце Сераскира; не испугался навестить лагерь зараженных чумой и с удовольствием посетил с целью проверки гарем плененного Османа-паши.

Ощутив благотворное влияние Востока, Пушкин создал во время своего длительного путешествия и позднее новые поэтические шедевры: «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Калмычке», «Олегов щит», «Дон», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Кавказ», «Обвал», «Делибаш», «Монастырь на Казбеке», «Опять увенчаны мы славой…», «Был и я среди донцов…», «Меж горных стен несется Терек…», «Стамбул гяуры нынче славят…», «Подражание арабскому», «Когда владыка ассирийский…», «Золото и булат», неоконченную поэму «Тазит». И как бы восторженно ни звучали все эти стихи, в них то и дело слышалась печальная нота тягостных предчувствий:

из ушаковского альбома. 1829 г.
День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.
И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?
Совершая свой побег на Кавказ, Пушкин как будто бы бежал еще дальше — к «вольному» небу, «вожделенному» свету и «вечным лучам», а иначе — к Богу. Горный монастырь на Казбеке поэт отчетливо увидел в образе спасительного ковчега:
Высоко над семьею гор,
Казбек, твой царственный шатер
Сияет вечными лучами.
Твой монастырь над облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство Бога скрыться мне!..
Следующий пост мы посвятим тому, что произошло дальше в страннической судьбе поэта, как путешествие в Арзрум отразилось на его творчестве, как он смог отчитаться перед императором за свое самовольство и хотел ли он еще раз совершить побег в дальние дали? А пока мне хочется представить читателям свое стихотворение, рожденное после повторения пушкинского маршрута в 2015 г., чтобы еще раз вспомнить самые яркие моменты событий 1829 г.

часть укреплений форта на горе Топ-Даг
Фото: Сергей Дмитриев
Путешествие в Эрзрум
У Пушкина было славное
Путешествие самое главное —
Хождение в дальний Эрзрум
Сквозь эпохи и гром, и шум,
По времени на полгода —
Шесть тысяч вёрст похода…
И какие же тайные думы
Довели его до Эрзрума —
Желанье побега, служенья, войны
Иль искупленье былой вины?
Или поездка к Грибоедову-другу
Положила начало этому кругу?
Знать точно нам сегодня не дано,
Но было так поэту суждено…
Да и что нам ныне за дело?

Фото: Сергей Дмитриев
Ведь поэт отправился смело
Из Москвы до седого Кавказа,
От Орла и Владикавказа
По дороге Военно-Грузинской,
Ох, опасной и исполинской,
Сквозь снега, ущелья, обвалы
И без счета ночевки, привалы
В вожделенный город Тифлис,
В самый центр кавказских кулис,
Где уже, как напастье, страшна,
С турками разгорелась война!
И пришлось почти что солдатом
Становится поэту, и с братом
Повидаться после Тифлиса,
После бань, шашлыков и кумыса
И восточного колорита…
А теперь дорога открыта
Сквозь Армению и Безобдал
На Гюмри и турецкий вал

и современности на арзрумских улицах
Фото: Сергей Дмитриев
Неприступных еще крепостей,
Их на свете не сыщешь сильней
В ряду близлежащих стран —
Карс, Эрзрум и Эрдоган!
И поэт лезет в страшные стычки,
Невзирая на всякие лычки,
То на турок он с пикою скачет,
То от взрывов себя не прячет,
То к Паскевичу смело везет
Донесение с фронта в обход…
Взят и Карс уже неприступный,
Пал Эрзрум непонятный и смутный,
И поэт во дворце сераскира живет,
Изучая там местный народ,
Посещая мечети, бани, гарем!
Вот избыток писательских тем,

Турецкое издание «Путешествия в Арзрум»
всегда вызывает интерес читателей
Фото: Сергей Дмитриев
Льются песни, стихи, дневники…
Но вот подло и не с руки
На Эрзрум наступает сама
Смертоноснейшая чума!
И поэт, попрощавшись с войной,
Уезжает обратно домой.
Будет долго еще вспоминать
Он турецких всадников рать
И шумящий узкий Дарьял,
И Крестовой горы пьедестал,
И блестящие наши победы,
И арбу с останками Грибоеда,
И могилку его на Мтацминде,
И Тифлиса пёстрые виды…
Да, запомнил поэт на век
Свой в Эрзрум дальний побег!
Ну а ныне выпало нам
По его проехать следам,
От спокойного Владикавказа
Через горы седого Кавказа
В нынешний город Эрзурум,
Где царит иной уже шум,
Шум двадцать первого века
И современного человека!
Батуми — Эрзурум, 5—8.05.2015
Пост №12. Москва и Санкт-Петербург: что ждало поэта по возвращении
Наше повествование остановилось на том, что Пушкин вернулся из своего путешествия в Москву 20 сентября (2 октября) 1829 г. и тут же был взят под надзор, ведь он действительно находился в долгом побеге, и его появление в столице не могло остаться незамеченным. И, конечно, родной город воодушевил поэта, попавшего в объятья своих друзей, коллег по писательскому цеху и родственников, среди которых следует отметить его дядю Василия Львовича Пушкина, чей музей был не так давно открыт в Москве на Старой Басманной улице. Более 20 дней провел поэт в Москве и главное, о чем он думал и к чему стремился, было его сватовство к Наталье Гончаровой, которое никак не ладилось. «Неприступный» Карс еще не покорился поэту-воину, и в этом виновата была во многом «маминька Карса», а именно будущая теща поэта, Наталия Ивановна Гончарова. И, конечно, не случайно поэт рисовал и рисовал в альбоме сестер Ушаковых образы своей избранницы и ее матери, каждый раз употребляя слова «Карс», «Карс».

Рисунки А.С. Пушкина. 1829
Напомним, что тучи «начальственного недовольства», как мы уже отмечали, начали сгущаться именно тогда, когда он покидал Арзрум. 20 июля (1 августа) А. Х. Бенкендорф доложил наконец-то императору об отъезде поэта на Кавказ. По каким-то причинам он скрывал этот факт от государя по крайней мере с 22 марта, когда «случайно» узнал об отъезде поэта и поручил установить за ним по пути следования секретный надзор. В поручении императора шефу жандармов по поводу Пушкина указывалось: «Надо его спросить, кто ему дозволил отправиться в Эрзерум, во-первых, потому что это вне наших границ, во-вторых, он забыл, что должен сообщать мне о каждом своем путешествии». Государь попросил разобраться и найти виновных.
Бенкендорф рассылал письма чиновникам с указаниями доложить ему, где же Пушкин? Так в своём письме от 1 (13) октября 1829 года он писал военному губернатору Тифлиса генералу С. С. Стрекалову: «Государь император был осведомлён… из публичных известий о том, что известный по отечественной словесности стихотворец Александр Сергеевич Пушкин, разъезжая в странах закавказских, был даже в Арзруме». Шеф жандармов требовал от Стрекалова «призвать к себе г. Пушкина и спросить его, по чьему повелению он предпринял сие путешествие и по каким причинам». Одновременно с этим Бенкендорф требовал у тифлисского губернатора предупредить Пушкина, что «сей его поступок легко почесть может своеволием и обратить на него невыгодное внимание». В конце своего письма генерал настоятельно рекомендовал уведомить его о встрече и беседе с Пушкиным. Получается странная вещь: когда Бенкендорф писал это письмо, Пушкин был уже в Москве. Значит, недреманное око самодержавия было не таким уж строгим?
В своём ответе от 24 октября (5 ноября) военный губернатор Тифлиса писал Бенкендорфу о том, что Пушкин прибыл в Тифлис в марте 1829 г., и за ним был установлен тайный надзор — «наблюдение за его поведением» — со стороны гражданского губернатора Тифлиса. Из Тифлиса поэт отправился в Арзрум с позволения фельдмаршала Паскевича-Эриванского.
14 (26) октября Бенкендорф напрямую обратился к Пушкину с запросом о его поездке на Кавказ, вновь упирая на то, что поэт посмел уехать не куда-нибудь, а за границу: «Государь император, узнав по публичным известиям, что вы… странствовали за Кавказом и посещали Арзрум, высочайше повелеть мне изволил спросить Вас, по чьему позволению предприняли Вы сие путешествие. Я же со своей стороны покорнейше прошу Вас уведомить меня, по каким причинам не изволили Вы сдержать данного мне слова и отправились в Закавказские страны, не предуведомив меня о намерении Вашем сделать сие путешествие». До этого Бенкендорф поручил своим подчиненным провести расследование «побега поэта» и получил данные, что заключительная часть путешествия была дозволена именно Паскевичем.

Гравюра Т.Райта с оригинала Дж.Доу.
1820-е
Это письмо Бенкендорфа Пушкин получил лишь по возвращении своем из Тверской губернии, где он находился у друзей в Павловском, Бернове, Малинниках с 13 (25) октября по 8 (20) ноября. Приехав в Петербург, 10 (22) ноября Пушкин написал, наконец, оправдательное письмо Бенкендорфу, в котором слукавил, будто он почти случайно, а не с заведомой целью оказался в действующей армии: «По прибытии на Кавказ я не мог устоять против желания повидаться с братом… с которым я был разлучен в течение 5 лет. Я подумал, что имею право съездить в Тифлис. Приехав, я уже не застал там армии. Я написал Николаю Раевскому… с просьбой выхлопотать для меня разрешение на приезд в лагерь. Я прибыл туда в самый день перехода через Саган-лу и, раз я уже был там, мне показалось неудобным уклониться от участия в делах, которые должны были последовать; вот почему я проделал кампанию в качестве не то солдата, не то путешественника».
Далее поэт написал, что он «бы предпочел подвергнуться самой суровой немилости, чем прослыть неблагодарным в глазах того… кому готов пожертвовать жизнью, и это не пустые слова», имея в виду императора. А сам император позднее, встретившись с Пушкиным в Петербурге, по воспоминаниям Н. В. Путяты, «спросил его, как он смел приехать в армию. Пушкин отвечал, что главнокомандующий позволил ему. Государь возразил: “Надобно было проситься у меня. Разве не знаете, что армия моя?»


Художник Д. Слепушкин
Конфликт был вроде бы исчерпан, но «недреманное око» продолжало следить за своевольным поэтом. Больше того, надзор за поэтом был усилен: ему без разрешения вообще нельзя было куда-либо отлучаться. Достаточно сказать, что в марте 1830 г. Пушкин получил новый нагоняй от императора и Бенкендорфа за то, что без спроса уехал всего лишь из Петербурга… в Москву, куда, наоборот, приехал Вяземский. Николай I не постеснялся в выражениях, когда сказал об этом Жуковскому: “Пушкин уехал в Москву. Зачем это? Какая муха его укусила… один сумасшедший уехал, другой сумасшедший приехал”.
Пушкину приходилось еще долго оправдываться за свою поездку в Арзрум, «за которую имел я несчастие заслужить неудовольствие начальства», как писал поэт Бенкендорфу 21 марта (2 апреля) 1830 г. При этом он привел слова, сказанные как-то самим шефом жандармов Пушкину: «…Вы вечно на больших дорогах». Тем самым Бенкендорф как бы намекнул поэту: зачем ему ездить в далекие страны, если он и так всегда в пути и движении, хватит, мол, и этого.
Путешествие в Арзрум придало Пушкину новые силы и новые надежды. Он ощутил явный прилив вдохновения, о котором могут свидетельствовать те произведения, которые были написаны поэтом в конце 1829 г. В начале октября в Москве, под впечатлением от пройденных ими только что дорог, Пушкин создает свой шедевр «Дорожные жалобы» — непревзойденный гимн всех путешественников, которые, где бы они ни находились, всегда рвутся домой:

Пушкин и Вяземский.
Художник Л.Е. Фейнберг
Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил,
На каменьях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.
Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.
Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.
Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?
То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!
То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!..
Ну, пошел же, погоняй!..
В этом стихе намеки на арзрумские приключения поэта звучат во многих местах: «то верхом», «то пешком», «на большой… дороге», «на каменьях», «на горе под колесом», «иль во рву», «иль чума»…
Именно в последние месяцы 1829 г., под впечатлением знаменательной поездки, поэт фактически закончит главу «Странствие» романа «Евгений Онегин», которая войдет потом в него в качестве «Путешествия Онегина». Ранее, в 1825 г., Пушкин написал 10 «одесских строф» своего «Странствия», а в октябре — декабре 1829 г. в Малинниках, Павловском и Петербурге он создал еще 22 строфы, став автором своеобразного поэтического травелога. Мы еще обратимся к его содержанию.

находился трактир Демута, где много раз жил Пушкин. Фото: Сергей Дмитриев
В Малинниках, где поэт провел две недели в октябре у Анны Вульф, с которой у него, по мнению некоторых пушкинистов, был «нежный» роман, поэт кроме «Странствия» работал над незаконченным «Романом в письмах», в которое включил 10 писем. В Павловском в начале ноября он написал свои поэтические шедевры: «Зима. Что делать нам в деревне?» и «Зимнее утро» («Мороз и солнце; день чудесный! / Ещё ты дремлешь, друг прелестный, — / Пора, красавица, проснись!»). В Петербурге поэт в том же году начнет сочинять поэму с точными и подробными описаниями примет быта и обычаев жизни кавказских горцев «Тазит». Обращение к ней вызовет у современного читателя очарование необычным колоритом повествования:
Не для бесед и ликований,
Не для кровавых совещаний,
Не для расспросов кунака,
Не для разбойничьей потехи
Так рано съехались адехи
На двор Гасуба старика.
В эти же месяцы родились и такие гениальные творения Пушкина, как «Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «О сколько нам открытий чудных…», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…». В этом стихотворении поэт провидчески думает о своей смерти, еще раз отмечает свою привязанность к родной земле, к «милому пределу», и свою веру в торжество жизни:

Рисунки А. С. Пушкина. 1829 г.
Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ль во многолюдный храм,
Сижу ль меж юношей безумных,
Я предаюсь моим мечтам.
Я говорю: промчатся годы,
И сколько здесь ни видно нас,
Мы все сойдем под вечны своды —
И чей-нибудь уж близок час…
День каждый, каждую годину
Привык я думой провождать,
Грядущей смерти годовщину
Меж их стараясь угадать.
И где мне смерть пошлет судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.
И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.
А для напоминания о «вечной красоте» природы Кавказа поэт закажет для себя акварель с видом Дарьяльского ущелья художнику Н. Г. Чернецову, и картина маслом по этому рисунку будет висеть в его кабинете в последней петербургской квартире на Мойке. Любопытно, что «дариал» на древнем персидском означает «ворота» или, точнее, «врата аланов».
Вернувшись в Петербург, Пушкин прочитал тенденциозные «Воспоминания о незабвенном А. С. Грибоедове» Ф. В. Булгарина, что не могло не укрепить его желание сказать свое, честное слово о Грибоедове, что он и сделал потом в своем «Путешествии в Арзрум». Кроме этого, Пушкин еще несколько раз цитировал поэта и вспоминал о нем в своих статьях и письмах, встречался с людьми, которые его хорошо знали. Весьма любопытно, что в январе — феврале 1830 г. Пушкин общался в Петербурге с английским офицером и дипломатом Джеймсом Эдвардом Александером, долгое время жившим в Персии, встречавшимся там с Грибоедовым и написавшим книгу «Путешествие из Индии в Англию», изданную в Лондоне в 1827 г., в которой, в частности, утверждалось, что Мирза-Якуб, тот самый «зловещий евнух», сыгравший роковую роль в судьбе Грибоедова, был тесно связан с английскими резидентами в Персии. Не будет отступлением от истины утверждать, что во время этих встреч с английским дипломатом обсуждались потаенные стороны трагедии в Тегеране.

К Грибоедову, без всякого сомнения, можно отнести и вот эти слова Пушкина, которые он адресовал памяти М. Б. Барклая-де-Толли:
О люди! Жалкий род, достойный слёз и смеха!
Жрецы минутного, поклонники успеха!
Как часто мимо вас проходит человек,
Над кем ругается слепой и буйный век,
Но чей высокий лик в грядущем поколенье
Поэта приведёт в восторг и умиленье!
Поездка на Восток на время успокоила страсть Пушкина к путешествиям, но уже в конце 1829 г. он написал, по сути, программное стихотворение и для самого себя, и для многих путешественников, назвав несколько мест, которые ему хотелось бы посетить:

Художник С.И. Телин. 1970-е
Поедем, я готов; куда бы вы, друзья,
Куда б ни вздумали, готов за вами я
Повсюду следовать, надменной убегая:
К подножию ль стены далёкого Китая,
В кипящий ли Париж, туда ли наконец,
Где Тасса не поёт уже ночной гребец,
Где древних городов под пеплом дремлют мощи,
Где кипарисные благоухают рощи,
Повсюду я готов. Поедем… но, друзья,
Скажите: в странствиях умрет ли страсть моя?
В этом стихотворении поэт упомянул несколько стран, куда влекли его мечты странника, — Китай, Францию, а также Италию и, вероятно, Испанию. А какова была реальная подоплека этого стихотворения! Оказывается, очень и очень любопытная и вновь связанная с Востоком. Дело в том, что после возвращения с Кавказа поэт неожиданно встретился со своим старым знакомым по работе в Коллегии иностранных дел П. Л. Шиллингом, человеком широкого научного кругозора, занимавшимся не только физикой, но и синологией (китаеведением). Зная китайский язык, Шиллинг изучал рукописи Древнего Китая и занимался организацией в эту страну научной экспедиции, которая должна была отправиться туда вместе с российским посольством.

Арбат, 53. Фото: Сергей Дмитриев
Шиллинг пригласил Пушкина, известного своей страстью к путешествиям, присоединиться к этому весьма трудному и опасному предприятию, поскольку Китай в ту пору был «закрытой страной» для европейцев. На интерес Пушкина к Китаю повлиял и знаменитый своими авантюристическими наклонностями Н. Я. Бичурин (в монашестве Иакинф), который в качестве начальника православной духовной миссии прожил в Китае 14 лет и написал целый ряд книг, в том числе «Описание Тибета». Пушкин не только был знаком с этими книгами, но и часто общался с Бичуриным, открывавшим поэту тайны далекого Китая и также звавшим его в намеченную экспедицию.
Из-за сложностей со сватовством к Н. Н. Гончаровой поэт находился в тот период на грани отчаяния и поэтому живо откликнулся на предложение друзей. 7 (19) января 1830 г. он отправился на прием к Бенкендорфу, но, не застав его, написал ему письмо, в котором повторил свою старую просьбу о посещении Европы и сообщил о своем новом желании посетить Китай: «Покамест я еще не женат и не зачислен на службу, я бы хотел совершить путешествие во Францию или Италию. В случае же, если оно не будет мне разрешено, я бы просил соизволения посетить Китай с отправляющимся туда посольством».
По сути, в данном случае поэт поступал так же, как Байрон перед его женитьбой. Опасаясь отказа в сватовстве, Пушкин признавался в своем незаконченном отрывке «Участь моя решена, я женюсь…», переведенном якобы с французского, о своем твердом и навязчивом желании уехать подальше от родных просторов: «Если мне откажут, думал я, поеду в чужие края, — и уже воображал себя на пироскафе. Около меня суетятся, прощаются, носят чемоданы, смотрят на часы. Пироскаф тронулся, морской, свежий воздух веет мне в лицо; я долго смотрю на убегающий берег — My native land, аdieu. (Моя родная земля, прощай (англ.)». Причем поэту почти не важно было, куда ехать. В том же 1830 г. в «Домике в Коломне» поэт признавался, что ему все кажется, «что в тряском беге / По мерзлой пашне мчусь я на телеге»:
Что за беда? не все ж гулять пешком
По невскому граниту иль на бале
Лощить паркет или скакать верхом
В степи киргизской. Поплетусь-ка дале,
Со станции на станцию шажком…

Однако его надеждам на новое путешествие не суждено было сбыться. 17 (29) января 1830 г. он получил ответ Бенкендорфа с уведомлением, что император «не соизволил снизойти на вашу просьбу посетить заграничные страны, полагая, что это слишком расстроит ваши денежные дела, а кроме того слишком отвлечет вас от ваших занятий. Ваше желание сопровождать нашу миссию в Китай так же не может быть удовлетворено, потому что все входящие в нее лица уже назначены и не могут быть заменены другими без уведомления о том Пекинского двора».
Как же Николай I не хотел никуда отпускать поэта, в первую очередь в силу его сомнительной «неблагонадежности»! В марте 1830 г. он не отпустил Пушкина даже в Полтаву с Николаем Раевским. И как мог император утверждать, что путешествие в Европу «отвлечет» Пушкина от его «занятий», ведь литературное поприще, особенно для гениального поэта, в том-то и состояло, чтобы «напитываться новыми впечатлениями» и на их основе создавать новые произведения.
М. А. Цявловский в своих, к сожалению, уже забытых статьях о Пушкине приводил вообще феноменальный для темы нашего исследования факт: когда зимой 1830 г. Пушкину было отказано в посещении Европы и Китая, он ухватился за мысль проситься в Персию, поданную ему тем самым чиновником Третьего отделения А. А. Ивановским, который навещал Пушкина еще в 1828 г. Свидетельств факта такого прошения в документах не сохранилось, но ведь оно могло быть высказано и в устной форме, например во время одной из встреч Пушкина с Бенкендорфом. В любом случае готовность Пушкина отправиться туда, где погиб его друг и выдающийся дипломат Грибоедов, говорит о многом: и о смелости, и о готовности жертвовать собой, и о дружеской верности великого поэта!..

и Наталье Гончаровой.
Москва, Арбат. Фото: Сергей Дмитриев
Накануне свадьбы поэта, 12 (24) февраля 1831 г., из поездки в Персию вернулся старший брат Натальи Николаевны Дмитрий Николаевич Гончаров, который, будучи чиновником Министерства иностранных дел, как раз и занимался в Тавризе разбором вещей и бумаг Грибоедова. И совершенно очевидно, что он не мог не рассказывать Пушкину во время их встреч о подоплеке и реальных обстоятельствах гибели поэта-посланника. Неизвестно, привез ли Гончаров с собой в Москву что-либо памятное из грибоедовских вещей…
Между тем венчание поэта и Натальи Гончаровой прошло 18 февраля 1831 г. и было омрачено предзнаменованием, которое уж слишком явно напомнило то, которое произошло два с половиной года назад во время венчания Грибоедова с Ниной Чавчавадзе 22 августа 1828 г. в Тифлисе, когда болевший лихорадкой жених обронил обручальное кольцо и сказал, что «это дурное предзнаменование». Присутствовавшая на венчании Пушкина Е. А. Долгорукова вспоминала: «Во время венчания нечаянно упали с аналоя крест и Евангелие, когда молодые шли кругом. Пушкин весь побледнел от этого. Потом у него потухла свечка. “Tous les mauvais augures” (“Все плохие предзнаменования” (фр.), — сказал Пушкин, выходя из церкви». Провидение еще раз протянуло незримую ниточку сходства между судьбами двух великих поэтов, хотя одному из них до исполнения мрачного предзнаменования оставалось чуть более 5 месяцев, а другому — немногим менее 6 лет.
Начинался новый этап в жизни Пушкина, наполненный и моментами счастья, и очередными испытаниями, и различными путешествиями, которые привели поэта через преграды и сомненья («Напрасно я бегу к сионским высотам, / Грех алчный гонится за мною по пятам…»), через духовные порывы («Недаром тёмною стезёй / Я проходил пустыню мира…») к очевидному выводу, ранее высказанному им не единожды:
Всё те же мы: нам целый мир чужбина;
Отечество нам Царское Село.
И имел здесь в виду поэт, конечно, в целом родную землю. Скитания Пушкина в итоге укрепили его неразрывную, кровную связь с Россией и ее природой. Однако все происходившее вокруг, тягости столичной жизни и ежедневная погоня за благополучием своей семьи не могли не обострять мрачные настроения поэта, которые он гениально отразил в строках, которые звучат как явная перекличка с «Горем от ума», постоянно, как тень, сопровождавшим Пушкина в его жизненных перипетиях:

А.С. Пушкин. Художник А.И. Клюндер
с оригинала О.А. Кипренского
и гравюры Н.И. Уткина. 1837
Не дай мне Бог сойти с ума.
Нет, легче посох и сума,
Нет, легче труд и глад.
Не то, чтоб разумом моим
Я дорожил; не то, чтоб с ним
Расстаться был бы рад…
Да вот беда: сойди с ума,
И страшен будешь как чума,
Как раз тебя запрут,
Посадят на цепь дурака
И сквозь решетку как зверька
Дразнить тебя придут.
А что же тема побега? Продолжала ли она будоражить сердце поэта или навсегда ушла в прошлое после арзрумских скитаний? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам придется обратиться к последним годам жизни Пушкина — этого вечного странника русской поэзии.
Пост №13. Другие путешествия Пушкина
Пушкин-странник, вернувшись из Арзрума, оказался в условиях еще более строгого надзора со стороны «властей предержащих». И неужели он не хотел снова убежать от такой опеки куда-нибудь в дальние края? Хотел, но не совсем так, как раньше. В феврале 1830 г. поэт писал К. Собаньской, что его «прельщает… одна лишь мысль о том, что когда-нибудь у меня будет клочок земли в… Крыму». Однако через некоторое время появляется новый мотив в мечтаниях Пушкина: поэт еще раз подтверждает свое намерение уехать далеко-далеко, но уже с важным уточнением: «В пустыню скрыться я хочу… Стремлюсь привычною мечтою // К студёным северным волнам», то есть не к южным морям и восточным пределам, а к просторам Русского Севера. В том же году поэт уже по-новому интерпретировал цыганскую вольницу, выбрав для себя «тишину и сельскую негу»:

Пушкина. Фото: Сергей Дмитриев
Здравствуй, счастливое племя!
Узнаю твои костры;
Я бы сам в иное время
Провождал сии шатры.
Завтра с первыми лучами
Ваш исчезнет вольный след.
Вы уйдете — но за вами
Не пойдет уже поэт.
Он бродящие ночлеги
И проказы старины
Позабыл для сельской неги
И домашней тишины.
Вскоре свадьба и семейная жизнь почти полностью изменили вектор возможного побега поэта. Уже 29 июня (11 июля) 1831 г. в письме П. А. Осиповой Пушкин просил продать ему деревушку Савкино: «Я бы выстроил себе там хижину, поставил бы свои книги и проводил бы подле добрых старых друзей несколько месяцев в году. Что скажете вы, сударыня, о моих воздушных замках, иначе говоря о моей хижине в Савкине? — меня этот проект приводит в восхищение и я постоянно к нему возвращаюсь». Позднее, в 1834 г., поэт уже откровенно видел цель своего побега в спасительных русских просторах, в обычной и спокойной сельской жизни, в очаровании тех же, сельских, нег:
Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля —
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

Этот же порыв к поиску и созиданию своего дома, своей обители Пушкин повторил и прозаически. В рукописи, продолжающей приведенные выше хрестоматийные строки, есть такие мудрые слова: «Юность не имеет нужды в at home (своем доме. — англ.), зрелый возраст ужасается своего уединения. Блажен кто находит подругу — тогда удались он домой. О, скоро ли перенесу я мои пенаты в деревню — поля, сад, крестьяне, книги: труды поэтические — семья, любовь etc. — религия, смерть». А еще позднее, в 1835 г., в программном для себя стихотворении «Странник», посвященном как раз побегу героя от людей и даже от семьи, Пушкин ещё раз подтвердил направление своих страннических мечтаний:

Художник А.А. Пластов. 1949
Пошел я вновь бродить, уныньем изнывая
И взоры вкруг себя со страхом обращая.
Как раб, замысливший отчаянный побег.
Иль путник, до дождя спешащий на ночлег.
Духовный труженик — влача свою веригу,
Я встретил юношу, читающего книгу.
Поэт-путник спросил юношу: «Куда ж бежать? Какой мне выбран путь?» На уточнение поэта, что он видит «некий свет», юноша дал страннику ясный и очень важный совет:
«Иди ж, — он продолжал, — держись сего ты света;
Пусть будет он тебе единственная мета,
Пока ты тесных врат спасенья не достиг,
Ступай!» — И я бежать пустился в тот же миг.
Показательно, что почти следом за этими строками Пушкин написал стихотворение о Михайловском («…Вновь я посетил…»).
В последние годы жизни тема Востока продолжала занимать поэта, который, к примеру, именно в этот период восхищался псалмами Давида и, как он признавался, часто «читал Библию». В 1831 г. с Кавказом был связан замысел крупного прозаического произведения Пушкина – «Романа на Кавказских водах», который был начат в конце сентября 1831 г., но вскоре оставлен поэтом без продолжения. В романе он собирался рассказать о «теперешнем состоянии Кавказа и прежнем». Такой замысел возник после ложных слухов о пленении горцами дочери М. И. Римской-Корсаковой Алины во время ее поездки на Минеральные Воды. Пушкин когда-то был увлечен этой девушкой, часто бывал в ее московском доме. И любопытно, что эта семья послужила прототипом для некоторых персонажей «Горя от ума».
В начале 30-х годов Пушкин, активно занимаясь издательской деятельностью, не единожды способствовал появлению персидской тематики в таких периодических изданиях, как «Литературная газета», «Северные цветы» и «Современник». Упомянем лишь несколько публикаций такого рода: стихотворения Л. А. Якубовича «Иран. Из Гафиза», «Старик. Из Саади», «Жены робкие, девицы…», а также повести Султана Казы-Гирея «Долина Ажигутай» и «Персидский анекдот».

В 1832 г. в наброске рецензии на книгу поэта А. Н. Муравьева «Путешествие к святым местам» Пушкин вновь с нескрываемой завистью писал о возможности своего товарища по поэтическому цеху «исполнить давнее желание сердца» и посетить святые, библейские места. Особенно Пушкина тронуло то, что Муравьев поехал в Иерусалим не ради написания «поэтического романа», не просто для поиска новых впечатлений: «Он посетил св. места как верующий, как смиренный христианин, как простодушный крестоносец, жаждущий повергнуться во прах пред гробом Христа Спасителя… Он не останавливается, он спешит… проникает в глубину пирамид, пускается в пустыню, оживленную черными шатрами бедуинов и верблюдами караванов, вступает в обетованную землю, наконец, с высоты вдруг видит Иерусалим…»
Так и представляется, что, описывая это путешествие, Пушкин сам устремлялся в своих мечтаниях на Землю обетованную, чтобы пасть с молитвой к Гробу Господню. А осенью 1834 г. поэт в своей повести «Кирджали» еще раз обратился к теме греческого национального движения против турецкого ига и рассказал о герое восстания 1821 г. «разбойнике» Кирджали.

Фото: Сергей Дмитриев
Свое последнее крупное путешествие, которое долго назревало (поэт писал еще в феврале 1833 г. П. В. Нащокину: «Путешествие нужно мне нравственно и физически»), Пушкин совершил 17 (29) августа 1833 г., когда он отправился из Петербурга через Москву в Нижний Новгород, Казань, Симбирск, Оренбург, Уральск и, пробыв в Болдине около 40 дней, вернулся в столицу 20 ноября (2 декабря) того же года. Поездка, одобренная императором, была нужна поэту для сбора материалов по «Истории Пугачева» и «Капитанской дочке», и совершенно очевидно, что, преодолев в восточном направлении только от Москвы до Уральска около 1800 верст, поэт не мог не увидеть воочию ранее неизвестные ему приметы Востока на дальних просторах своего Отечества, населенных разными народами. «Я прочел со вниманием все, что было напечатано о Пугачеве… Я посетил места, — объяснял он впоследствии, — где произошли главные события эпохи, мной описанной, поверяя мертвые документы словами еще живых, но уже престарелых очевидцев…» Естественно, в пути не обошлось без приключений и тягостей, столь знакомых страннику Пушкину.
Закончив к концу 1833 г. свою «Историю Пугачева», Пушкин проявил себя впервые в жизни в качестве историка-исследователя, а не только писателя. Рассказывая о яицких казаках и их взаимоотношениях с соседскими «татарскими семействами», он затронул и тему казацких набегов на Персию, упомянув при этом Стеньку Разина: «Число их (казаков) час от часу множилось. Они продолжали разъезжать по Каспийскому морю, соединялись там с донскими казаками, вместе нападали на торговые персидские суда и грабили приморские селения. Шах жаловался царю. Из Москвы посланы были на Дон и на Яик увещевательные грамоты».
В другом месте «Истории» поэт рассказал об участии уральских казаков в петровских походах для усмирения башкирцев и взятия Хивинского ханства. Пушкин подробно описал эпопею казаков яицкого войска во главе с Нечаем, который, пойдя на Хиву, «без всякого труда и препятствия городом и всем тамошним богатством овладел, а ханских жен в полон побрал, из которых одну он, Нечай, сам себе взял и при себе содержал». Однако вскоре выступивших из города казаков догнал возвращавшийся из похода местный хан с войском и наголову разбил неприятеля. Впоследствии такие же походы казаков продолжались. Пушкин подробно коснулся в своем труде и истории трагического исхода в 1771—1772 гг. волжских калмыков в сторону Китая, кончившимся гибелью в боях и от болезней десятков тысяч калмыков.
Совершенные в 1833 г. странствия пробудили в поэте жажду новых путешествий. Находясь в Болдине, поэт написал свою непревзойденную «Осень» с ее бессмертными строками: «Унылая пора! Очей очарованье!», но закончил он это стихотворение показательным сравнением своего поэтического вдохновения с готовым к отплытию кораблем:

К.С. Петров-Водкин. 1934
…Минута — и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! — матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз — и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны…
Плывет. Куда ж нам плыть?
И на этот вопрос ответил сам поэт, хотя он и сделал это в черновом варианте последней строфы стихотворения:
Ура!.. куда же плыть? какие берега
Теперь мы посетим: Кавказ ли колоссальный,
Иль опаленные Молдавии луга,
Иль скалы дикие Шотландии печальной,
Или Нормандии блестящие снега,
Или Швейцарии ландшафт пирамидальный.
Здесь Пушкин добавил к списку вожделенных им мест и стран не только уже виденные им Кавказ и Молдавию, но и западноевропейские края. При этом в черновике «Осени» поэт упомянул также тех «знакомцев дальних», которых привыкла лелеять его мечта, смешав и Восток и Запад:
Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапские цари,
Гречанки с четками, корсары, богдыханы,
Испанцы в епанчах, жиды, богатыри.

В декабре 1833 г., лишь только в продаже появилось первое издание «Горя от ума», Пушкин приобрел его, и оно заняло свое законное место в ряду «любимых друзей», как называл свои книги Пушкин. Грибоедов стал прототипом одного из персонажей неосуществленного замысла поэта — романа «Русский Пелам» (1834—1835), в котором должна была быть отражена сквозной линией так называемая четверная дуэль В. В. Шереметева с А. П. Завадовским и Грибоедова с А. И. Якубовичем.
Называя своего героя русским Пеламом, поэт имел в виду героя романа «Пелам, или Приключения джентльмена» английского писателя Эд. Буллвер-Литтона, романа, который тоже был построен на основе путешествий. Жаль, что Пушкин не успел воплотить этот замысел в жизнь, ведь он прекрасно знал всю эту историю, и не только со слов самого Грибоедова, но и со слов «колоритного» Якубовича, с которым он также общался. Еще в ноябре 1825 г. поэт писал А. А. Бестужеву об этом знакомом: «…Не Якубович ли, герой моего воображения? Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе, простреливал Грибоедова (здесь имеется в виду сама дуэль, закончившаяся ранением поэта в левую руку, что привело к «неработоспособности» мизинца. — С. Д.), хоронил Шереметева etc. — в нем много, в самом деле романтизма. Жаль, что я не встретился с ним в Кабарде — поэма моя была бы еще лучше».

«Русский Пелам» так и не был написан. Причину этого Пушкин объяснил В. И. Далю своим «пылким духом поэта»: «…Вы не поверите, как мне хочется написать роман, но нет, не могу: у меня начато их три, — начну прекрасно, а там недостает терпения, не слажу».
В январе 1835 г. Пушкин еще раз вспоминает Грибоедова в своей неопубликованной статье «Путешествие из Москвы в Петербург», где горько сетует о том, насколько изменился облик Москвы: «Горе от ума» есть уже картина обветшалая, печальный анахронизм. Вы в Москве уже не найдете ни Фамусова, который всякому, ты знаешь, рад — и князю Петру Ильичу, и французику из Бордо, и Загорецкому, и Скалозубу, и Чацкому; ни Татьяны Юрьевны, которая
Балы дает нельзя богаче
От рождества и до поста,
А летом праздники на даче.
Хлестова — в могиле; Репетилов — в деревне. Бедная Москва!..» Пушкин мог бы добавить: и нет, и не будет никогда в Москве и самого автора бессмертной комедии!

Важно, что тема путешествий, в том числе и на Восток, продолжала занимать поэта и в самые последние годы его жизни. Об этом может свидетельствовать хотя бы отрывок «Мы проводили вечер на даче…», написанный в том же 1835 г., посвященный Клеопатре и созвучный с незаконченной повестью поэта «Египетские ночи» (в этой повести, кстати, в качестве главного героя действует поэт по фамилии Чарский — почти что Чацкий!).
Послушаем, какая поэзия дальних странствий звучит в описаниях Пушкиным египетских реалий древнего времени: «Темная, знойная ночь объемлет африканское небо; Александрия заснула; ее стогны утихли. Дома померкли. Дальний Форос горит уединенно в ее широкой пристани, как лампада в изголовье спящей красавицы… Порфирная колоннада, открытая с юга и севера, ожидает дуновения Эвра; но воздух недвижим — огненные языки светильников горят недвижно… море, как зеркало, лежит недвижно у розовых ступеней полукруглого крыльца. Сторожевые сфинксы в нем отразили свои золоченные когти и гранитные хвосты…» Да, величайший в истории России поэт становился на склоне своих лет непревзойденным мастером прозы.

1839
Именно Н. В. Гоголь лучше, чем кто-либо другой, понял, какую роль в творчестве Пушкина сыграл Восток. По его словам, судьба совсем не случайно «забросила» поэта туда, «где гладкая неизмерность России прерывается подоблачными горами и обвевается югом», Кавказ не только поразил Пушкина, но и «вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще тяготели на свободных мыслях». В итоге, как писал Гоголь о поэте, «в своих творениях он жарче и пламеннее там, где душа его коснулась юга. На них он невольно означил всю силу свою и оттого произведения его, напитанные Кавказом, волею черкесской жизни и ночами Крыма, имели чудную, магическую силу…» И как это часто бывает у писателей-гениев, Пушкин, пропитавшись духом Востока, еще сильнее и ярче стал воспевать родную землю, русская струна зазвучала в его творениях более пронзительно и звонко.
И вполне закономерно, что в конце своего страннического пути Пушкин подошел от поэзии к прозе, а от прозы к истории — науке о том, как развивались дороги человеческой жизни в самых разных уголках планеты. Почти пять с половиной лет он занимался сбором материалов и написанием «Истории Петра I» — главного своего исторического исследования, сквозь призму которого он хотел не только взглянуть на поворотные моменты отечественной истории, но и понять место России в изменяющемся мире. Изучение материалов по Петровской эпохе поэт продолжал до последних дней жизни. В конце декабря 1836 г. он сообщал, что «Петр Великий» отнимает у него «много времени».
По сути, в последние годы своей жизни поэт стал больше историком, чем поэтом. Еще в июле 1831 г. он по его просьбе был зачислен в Коллегию иностранных дел «с позволением рыться в старых архивах для написания истории Петра Первого», где занимался до марта 1832 г. Затем он получил разрешение работать в Эрмитаже над библиотекой Вольтера «с разными редкими книгами, доставленными ему (Вольтеру) для составления его истории Петра Великого», а также подолгу занимался в архивах Российской империи в Москве (ныне Центральный архив древних актов).

В письме к жене от 16 мая 1836 г. из Москвы Пушкин писал: «В архивах я был, и принужден буду опять в них зарыться месяцев на шесть». А по воспоминаниям Н. М. Смирнова, поэт особенно хорошо «изучил российскую историю и из оной всю эпоху с начала царствования Петра Великого до наших времен… Он этим делом занялся с любовью, но не хотел писать прежде, чем соберет все нужные материалы…» Суть своего замысла Пушкин прояснил в еще одном письме к жене: «Ты спрашиваешь меня о Петре? Идет помаленьку; скопляю материалы — привожу в порядок — и вдруг вылью медный памятник, которого нельзя будет перетаскивать с одного конца города в другой, с площади на площадь, с переулка в переулок».

на здании по адресу Мойка, 12
Фото: Сергей Дмитриев
Вот это-то качество кропотливого труда в архивах и отличало всегда настоящих историков от писателей-беллетристов, которые любят историю, пишут на ее сюжеты свои произведения, но часто не беспокоятся о документальной точности своих трудов. Пушкин, если бы судьба подарила ему долгую жизнь, без сомнения, стал бы выдающимся историком, о чем может свидетельствовать хотя бы рассматриваемая нами «История Петра», которую ждали драматические коллизии. Подготовительный текст ее чудом сохранился: эта рукопись была создана поэтом в 1835 г., затеряна в 1850-х гг., найдена потомками Пушкина только в 1917 г. в подмосковной Лопасне, а опубликована впервые лишь в 1938-м. Но несмотря на свою незавершенность, «История» прекрасно иллюстрирует широту исторических взглядов поэта и его почти всемирный взгляд на Петровскую эпоху. Об этом может свидетельствовать хотя бы тот факт, что из общего объема рукописи в 350 книжных страниц 12 страниц Пушкин посвятил одному только Персидскому походу Петра I (1722—1723), назвав соответствующую главу «Дела персидские».
Начиная поход и стремясь восстановить торговый путь из Центральной Азии и Индии в Европу, Петр планировал выступить из Астрахани, идти берегом Каспия, захватить Дербент и Баку, дойдя до реки Куры, основать там крепость, а затем двинуться на Тифлис, чтобы оказать поддержку Грузии в борьбе с Османской империей. И этот масштабный поход, в котором на стороне России участвовало более 100 000 человек, в том числе татары, калмыки, армяне и грузины, увенчался успехом. 23 августа 1722 г. русские войска вошли в Дербент, в ноябре — в город Решт — столицу персидской провинции Гилян, а 26 июля 1723 г. — в Баку. 12 сентября того же года в Петербурге был заключен мирный договор с Персией, согласно которому к России отошли Дербент, Баку, Решт, провинции Ширван, Гилян, Мазендаран и Астрабад.

Вмешательство в события Османской империи, войска которой летом 1723 г. вторглись в Грузию, Армению и западную часть Азербайджана, помешало Петру выполнить освободительные задачи в Закавказье. И хотя для того, чтобы избежать новых русско-турецких войн, Россия вынуждена была вернуть Персии все ее прикаспийские области, согласно Рештскому договору (1732) и Гянджинскому трактату (1735), победы Петра на Востоке были очевидны, и мимо них не мог пройти Пушкин, который, как мы знаем, интересовался темой Персии долгие годы.
Весь накопленный Пушкиным «персидский материал» с множеством удивительных историй и судеб выявлял, как он сам утверждал, серьезные «основания для восточного романа», который поэт мечтал написать. Но судьба отпустила ему тогда слишком мало времени.
В последний год жизни настроения поэта менялись, и он уже не так истово рвался в дорогу, особенно учитывая его семейные дела. Но он до конца оставался верен Музе странствий, помня о своих былых путешествиях. Под конец жизни не утерял поэт и интереса к истории. Обращаясь к Ювеналу, он писал тогда: «Ты к мощной древности опять меня манишь…» Поэт в этот период лишь окончательно менял вектор своих устремлений. Вот как гениально он высказал эти настроения в своих стихах:

Литография. 1837
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безымянные страданья…
Другие дни, другие сны;
Смирились вы, моей весны
Высокопарные мечтанья,
И в поэтический бокал
Воды я много подмешал.
Иные нужны мне картины:
Люблю песчаный косогор,
Перед избушкой две рябины,
Калитку, сломанный забор…
В этих словах чувствуется неприкрытая тяга поэта к родной земле (заметим, не к столицам, а к русской деревне и усадьбе). Между тем мечты о новых путешествиях, в том числе дальних, вовсе не оставили поэта. Больше того, за полгода до смерти, в 1836 г., в стихотворении «Из Пиндемонти» поэт вообще поставил путешествия и познание культурных творений, наряду с независимостью и свободой поэта, выше каких-либо других ценностей бытия:
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья,
Вот счастье! вот права…
Пусть этот завет верности путешествиям и возведения их на пьедестал величайших жизненных благ послужит и в наше суматошное время примером для всех, кто проявляет «охоту к перемене мест». Пушкин из далека-далёка зовет нас «по прихоти своей скитаться здесь и там», наполняя жизнь новыми впечатлениями и мудростью…
Пост №14. Путешествие Онегина
Завершая тему путешествий Пушкина, самым ярким и важным из которых было именно путешествие в Арзрум, мы не можем не затронуть более подробно главное творение поэта — роман в стихах «Евгений Онегин», который Пушкин писал почти восемь с половиной лет, с мая 1823 по октябрь 1831 г., во время многих своих странствий и скитаний, а значит, этот роман не мог не вобрать в себя не только саму тему путешествий, но и конкретные моменты жизни автора-скитальца. Закончив роман вчерне в Болдине осенью 1830 г., Пушкин в особой табличке перечислил девять написанных глав с их предполагаемыми заголовками и с указанием дат и мест, где они писались. Приведем этот документ, датируемый 26 сентября 1830 г. и раскрывающий «кухню» работы поэта:
«Онегин
Часть первая.
Предисловие
I песнь. Хандра. Кишинев, Одесса.
II Поэт. Одесса 1824.
III Барышня. Одесса. Мих. 1824.
Часть вторая.
IV песнь. Деревня Михайлов. 1825.
V. Именины Мих. 1825. 1826.
VI. Поединок Мих. 1826.
Часть третья.
VII. песнь Москва Мих. П. Б. Малинн. 1827. 8.
VIII. Странствие Моск. Павл. 1829 Болд.
IX. Большой свет Болд.
Примечания.
1823 год 9 мая Кишинев — 1830 25 сент. Болдино.
26 сент. АП
И жить торопится и чувствовать спешит. К. В.
7 лет 4 месяца 17 дней».
Пушкин до дня высчитал, сколько времени прошло с начала его работы над романом в Кишиневе. Но в Болдине в сентябре 1830 г. правка романа автором не закончилась. В дальнейшем Пушкин исключил из состава романа всю восьмую главу «Странствие», перенеся часть строф из этой главы в последнюю главу романа, которая и стала восьмой. В нее же Пушкин включил и письмо Онегина к Татьяне, написанное им в Царском Селе 5 октября 1831 г. П. А. Катенин в письме к П. В. Анненкову, правда, через много-много лет, в 1853 г., объяснил причины, по которым поэт выкинул главу «Странствие» из текста романа: «Об осьмой главе Онегина слышал я от покойного в 1832-м году, что сверх Нижегородской ярмонки и Одесской пристани Евгений видел военные поселения, заведенные гр. Аракчеевым, и тут были замечания, суждения, выражения, слишком резкие для обнародования, и потому он рассудил за благо предать их вечному забвению и вместе выкинуть из повести всю главу, без них слишком короткую и как бы оскудевшую».

Художник Е.И. Гейтман
с оригинала А.В. Нотбека. 1829
Кроме упомянутых девяти глав, Пушкин работал и над десятой, не предназначая ее для печати, в том числе потому, что там рассказывалось о декабристах. Эту главу Пушкин сжег в Болдине 19 октября 1830 г., зашифровав ее на нескольких листках, из которых сохранился лишь один листок, содержащий четверостишия нескольких начальных строф. Кроме того, сохранились черновики трех строф десятой главы, что позволило пушкинистам восстановить ее частично. Исчезли и те строфы из «Путешествия Онегина», где говорилось о новгородских поселениях.
Для нас из этой творческой хроники важно уяснить, что Пушкин работал над своим романом в Кишиневе, Одессе, Михайловском, Петровском, Бернове, Малинниках, Москве, Болдине и Царском Селе…
Вот она, география странствий поэта на протяжении более 8 лет, но эта география не совпадает с географией самого романа, действие которого происходит лишь в Петербурге, Москве и в той местности, где расположены имения Лариных, Онегина и Ленского (Пушкин не называет названия мест этих имений, кроме поместья Ленского, расположенного, по всей видимости, в вымышленном автором Красногорье). Правда, Пушкин все равно наполнил содержание романа многими географическими названиями и топонимами: конкретными местами Петербурга (Нева, Летний сад, Мильонная улица, Охта), Москвы (Петровский замок, Тверская улица, Дворянское Собранье, места «у Харитонья в переулке» и «у Симеона»), названиями, упоминаемыми в повествовании о героях романа (например, «очаковская медаль», «dandy лондонский», «английский сплин», «страсбургский пирог», «лимбургский сыр»), и названиями, которые присутствуют в личных отступлениях автора («гордая лира Альбиона», «венецианка младая», «пленницы берегов Салгира», «глушь Молдавии печальной» и т. д.).

Однако особняком в романе стоит «Путешествие Онегина»: чтобы разобраться с этим важным фрагментом, придется снова вспомнить о Грибоедове, чья гениальная комедия «Горе от ума» оказала сильное влияние на многие произведения Пушкина, особенно на «Бориса Годунова» и «Евгения Онегина». Не вдаваясь в подробности и не упоминая скрытые параллели и созвучия, укажем лишь на то, что в «Онегине» поэт трижды прямо ссылается на «Горе от ума»: в шестой главе, когда он воспроизводит строку Грибоедова: «И вот общественное мненье!»; в эпиграфе к седьмой главе со словами из комедии: «Гоненье на Москву! что значит видеть свет! // Где ж лучше? // Где нас нет»; и в восьмой главе, где Онегин, «убив на поединке друга», «ничем заняться не умел» и отправился в путешествие:
Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Не многих добровольный крест).
Оставил он свое селенье,
Лесов и нив уединенье…
И начал странствия без цели,
Доступный чувству одному;
И путешествия ему,
Как всё на свете, надоели;
Он возвратился и попал,
Как Чацкий, с корабля на бал.
Здесь Пушкин не только следует за Грибоедовым, который писал о чувствах, «Которые во мне ни даль не охладила, // Ни развлечения, ни перемена мест», но и прямо сравнивает Онегина с Чацким, загадывая нам очередную загадку: а где же странствовал главный герой пушкинского поэтического воображения? Там же, где и Чацкий? Вспомним, что Чацкий появляется зимним утром 1819 г. в московском доме Фамусова после того, как провел три года где-то в далеких краях, проехав на лошадях больше семисот верст, видимо, из Петербурга в Москву. Очевидно, что в Россию Чацкий прибыл водным путем, вероятнее всего, с лечебных вод (в Германии?), в комедии упоминается также, что он побывал во Франции. Получается, что и Онегин, отсутствовавший также три года, тоже «на корабле» вернулся в Петербург из Европы. Однако не все так просто.

Дело в том, что в 1827 г. Пушкин хотел в своих черновиках ввести путешествие Онегина в седьмую главу романа в стихах, написав, что его герой, «убив неопытного друга», решился «в кибитку сесть» и отправился, скорее всего, за границу:
Ямщик удалый засвистал,
И наш Онегин поскакал
Искать отраду жизни скучной —
По отдалённым сторонам,
Куда не зная точно сам.
Потом, в 1830 г., поэт решил посвятить путешествиям Онегина отдельную восьмую главу, и весьма важно, что тогда в плане всех глав он назвал её «Странствие». Однако в 1831 г. Пушкин изменил свое намерение, вынув «Странствие» из системы глав и поместив отрывки из «Путешествия Онегина» в качестве отдельного приложения к своему роману. Сам поэт позднее чистосердечно признался в предисловии к этим отрывкам, что «он выпустил из своего романа целую главу, в коей описано было путешествие Онегина по России», причем «по причинам, важным для него, а не для публики». При этом, публикуя отрывки, автор не включил в них следующую ключевую строфу, в которой прямо говорилось о европейских странствиях Онегина:

к роману «Евгений Онегин».
Художник К.И. Рудаков. 1949
Наскуча или слыть Мельмотом
Иль маской щеголять иной,
Проснулся раз он патриотом
Дождливой, скучною порой.
Россия, господа, мгновенно
Ему понравилась отменно,
И решено. Уж он влюблен,
Уж Русью только бредит он,
Уж он Европу ненавидит
С её политикой сухой,
С её развратной суетой.
Онегин едет; он увидит
Святую Русь: её поля,
Пустыни, грады и моря.
Вот так и получилось, что в своем романе Пушкин вообще не поместил прямых свидетельств о заграничном вояже Онегина. Владимир Набоков в своих обстоятельных «Комментариях к «Евгению Онегину» Александра Пушкина» писал, что «в окончательном тексте» романа «мы не находим ничего такого, что давало бы веские основания исключить возможность странствий Онегина (после того, как он побывал на черноморских берегах…) по Западной Европе, откуда он и возвращается в Россию». Однако, согласно исследованиям того же Набокова, получается, что, выехав из Петербурга вскоре после дуэли летом 1821 г., Онегин направился в Москву, Нижний Новгород, Астрахань и на Кавказ, осенью 1823 г. он попал в Крым, навестил Пушкина в Одессе и в августе 1824 г. возвратился в Петербург, «закончив круг своего русского путешествия, — никакой возможности того, что побывал и за границей, не остается».
Не будем углубляться в доказательства Набокова, отметим только, что уж очень долгим было путешествие Онегина по России — более трех лет, при том, что он посетил не так уж много мест. За такой срок можно было бы объехать всю Россию. Поэтому я бы не стал исключать того, что в замыслах Пушкина было все-таки запланировано заграничное путешествие Онегина, просто автор ждал и надеялся, что он сам рано или поздно отправится в собственные заграничные странствия и опишет их в онегинских строфах. Однако жизнь никак не дарила Пушкину дальние поездки, и пришлось исключить заграничные вояжи из сюжета романа.

Хронология, в которой первая глава отнесена к зиме 1819—1820 г., последняя глава (возвращение Онегина в Петербург) к осени (у Набокова — к августу) 1824 г., а финал — к весне 1825 г., сложилась весьма давно и была предложена еще Р. В. Ивановым-Разумником в начале XX в. Большинство пушкинистов придерживались именно этой хронологии, которая как бы подводила Онегина к восстанию декабристов. Такую точку зрения отстаивал и В. В. Набоков, и Ю. М. Лотман, и Н. Л. Бродский. Однако ряд исследователей (В. М. Кожевников, А. А. Аникин) отстаивают иную периодизацию, отталкиваясь от важного указания Пушкина в тексте романа, что по ходу повествования Татьянин день накануне дуэли Онегина с Ленским был в субботу, а это могло произойти в те годы только 12 января 1824 г. Они не оспаривают пушкинское указание из предисловия к первой главе, что ее события относятся к зиме 1819 г. и что друзья — Онегин и Пушкин — были разведены судьбой летом 1820 г., но дальнейшие события, по их мнению, были намного дольше развернуты во времени: знакомство Онегина с Лариными не могло состояться в тот же 1820 г., когда ближе к осени герой романа прибыл в дядино имение; знакомство Татьяны с Онегиным произошло, скорее всего, уже весной 1823 г.; после дуэли 14 января 1824 г. Онегин отправился в свое трехлетнее путешествие — до 1827 г., причем, возможно, и по зарубежью (не зря же Ф. М. Достоевский в «Речи о Пушкине» говорил, что Евгений «скитается по землям иностранным»); Татьяна Ларина приехала в Москву зимой, в январе — феврале 1825 г., а в конце этого года вышла замуж за генерала; восьмая глава описывает Санкт-Петербург, уже почти забывший восстание декабристов, события в ней разворачиваются поздней осенью 1827 г., а завершается действие романа весной 1828 г.

В пушкинском романе много загадок, и одной из них до сих пор остается хронология событий «Евгения Онегина». Будем надеяться, что эта загадка будет когда-либо разгадана полностью и бесповоротно. Нам же следует обратить внимание вот на это важное заключение: фактически Онегин странствует только путями самого автора. Жизнь не подарила Пушкину других больших странствий, хотя в период написания романа он несколько раз надеялся на свои путешествия за границу.
Поэтому-то глава «Путешествие Онегина» и осталась незаконченной: поэт не хотел писать о том, чего сам не видел. Он описал в ней только те места, которые посещал лично, и не его вина, что это были только точки на карте России, а не всего мира.
Между тем у поэта была затаенная страсть воочию увидеть далекие страны. О ней лучше всех рассказала в своих записках А. О. Смирнова-Россет, с которой Пушкин часто встречался в салоне вдовы историка Е. А. Карамзиной. Вот как она передала весьма красноречивые для нашего повествования слова поэта: «Я желал бы видеть Константинополь, Рим и Иерусалим. Какую можно бы написать поэму об этих трех городах, но надо их увидеть, чтобы о них говорить. Увидеть Босфор, Святую Софию, посидеть в оливковом саду, увидеть Мертвое море, Иордан! Какой чудесный сон!»

«Затем он говорил о Риме сперва идолопоклонническом, потом христианском, — продолжала Смирнова-Россет, — говорил об Иерусалиме, причем я заметила, что он был взволнован. Глаза его приняли выражение, которого я не видала ни у кого, кроме него, и то редко. Когда он испытывает внутренний восторг, у него появляется особенное серьезное выражение: он мыслит. Я думаю, что Пушкин готовит для нас еще много неожиданного. Несмотря на веселое обращение, иногда почти легкомысленное, несмотря на иронические речи, он умеет глубоко чувствовать. Я думаю, что он серьезно верующий, но он про это никогда не говорит. Глинка рассказал мне, что он раз застал его с Евангелием в руках, причем Пушкин сказал ему: “Вот единственная книга в мире; в ней все есть”. Я сказала Пушкину: “Уверяют, что вы неверующий”. Он расхохотался и сказал, пожимая плечами: “Значит, они меня считают совершенным кретином”».

Заметим, что из трех великих городов, выделенных Пушкиным, Иерусалим и Константинополь — это жемчужины Востока, Рим был когда-то столицей империи, простиравшейся на три континента — Европу, Африку и Азию, а Библия вообще самый выдающийся памятник восточной культуры. А. О. Смирнова-Россет, в воспоминаниях которой, правда, некоторые исследователи находят сомнительные сведения, уверяла также, что совсем не случайным был интерес Пушкина и к Китаю: «Я спросила его: неужели для его счастья необходимо видеть фарфоровую башню и великую стену? Что за идея смотреть китайских божков? Он уверил меня, что мечтает об этом с тех пор, как прочел «Китайского сироту», в котором нет ничего китайского; ему хотелось бы написать китайскую драму, чтобы досадить тени Вольтера». В черновиках первой главы «Евгения Онегина» сохранились недописанные пушкинские строки о Конфуции:

Художник В.А. Тропинин. 1827
Конфуций — мудрец Китая
Нас учит юность уважать —
От заблуждений охраняя,
Не торопиться осуждать.
Она одна дает надежды…
Китайский эпизод в мечтаниях Пушкина о дальних странствиях еще раз демонстрирует, насколько отзывчивым он был к истории и жизни самых разных народов мира, как увлеченно он бредил Востоком, понимая, вероятнее всего, ту великую миссию, которую суждено было выполнить русскому народу в Азии. Косвенно об этом осознании свидетельствует записанный Пушкиным в дневнике его разговор 30 ноября 1833 г. с английским поверенным в делах в Петербурге Блаем: «Долго ли вам распространяться? (мы смотрели карту постепенного распространения России, составленную Бутурлиным). Ваше место Азия; там совершите вы достойный подвиг цивилизации…»
Нам же важно еще и еще раз подчеркнуть, что и в своем главном поэтическом творении Пушкин отдал весомую дань теме путешествий, создав, по сути, своим «Путешествием Онегина» один из первых поэтических травелогов в России.

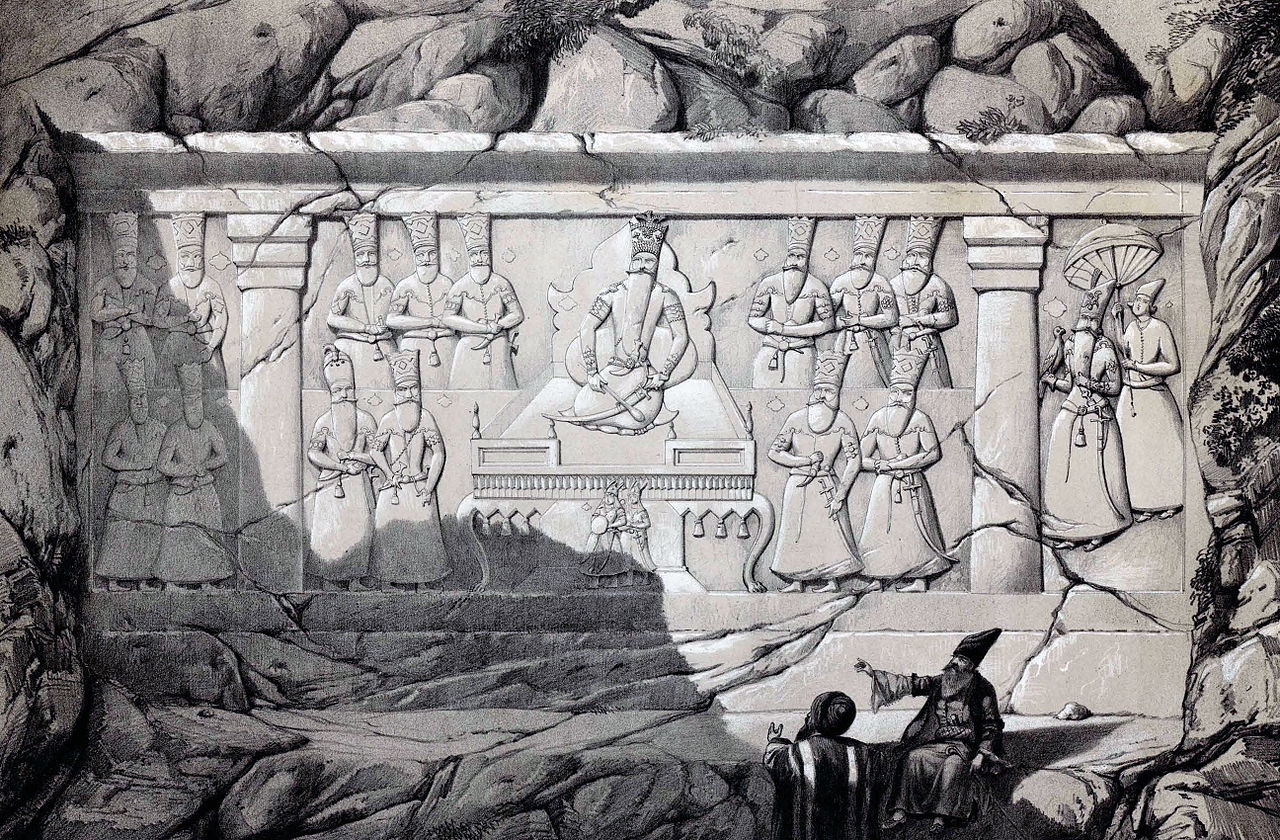
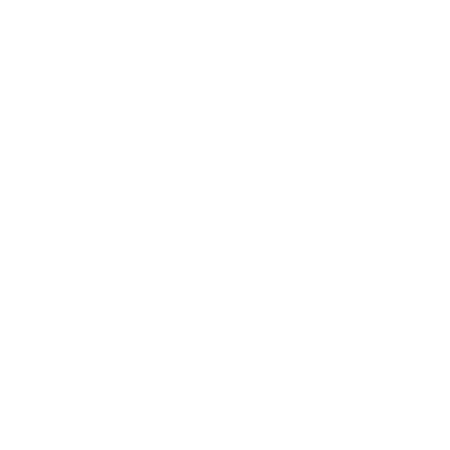 Яндекс.Дзен
Яндекс.Дзен



